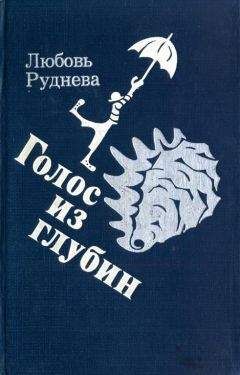Иван Щеголихин - Снега метельные
Разговор шел о том, сколько прибыло в совхоз шоферов и рабочих, как их разместили, а главное, сколько вывезено зерна на сегодня.
Женя терпеливо ждала, соображая, что после того, как он положит трубку, неловко будет занимать его деловое время. Сейчас, наверное, начнут звонить без передышки, а она будет сидеть истуканом, забытая и никому здесь ненужная.
Дождавшись, когда Николаев закончил разговор, Женя с улыбкой поднялась. Она сама не знала, что означала ее улыбка, но в том, что она должна быть, Женя не сомневалась. Быть может, многозначительную усмешку? Месть за перерыв в его внимании к ней? Или же: «Нет, товарищ Николаев, никакими стиральными машинами и типовыми столовыми женщину в доме не заменить во веки веков, хотя вы и ответственный руководитель!..» Она улыбалась непроизвольно, как будто все предыдущие женские поколения передали ей в наследство это действенное оружие, эту необъяснимую тактику. А он теперь как хочет, пусть так и думает, пусть разгадывает.
Николаев вскочил, извиняясь, бормоча, что ей, конечно, скучно. Подал Жене пальто и платок. Помедлил и... пошел ее провожать.
На улице Николаев долго молчал. Женя подумала, он занят обдумыванием телефонного разговора, и решила высказать свои деловые соображения. Почему райком не интересуется делами автобазы?
— Хорошо, что вы обратили внимание на автобазу,— рассеянно отозвался Николаев.— Подскажите, что им надо сделать на первых порах. Жакипов — человек исполнительный и толковый. Скоро они будут жить лучше. Автобаза создана всего-навсего три месяца тому назад. Полторы тысячи машин пришли на пустырь. Бывали дни, когда в палатках шоферам не хватало места, спали в кабинках. Вы, наверное, помните, как ходили на воскресники всем поселком, строили шоферам землянки.— Он вздохнул.— Конечно, лучше было бы приехать сразу в теплые благоустроенные квартиры, но это уже совсем другой вопрос. Где-нибудь на Западе вряд ли нашлось бы столько добровольцев ехать на пустое место. Там другая психология, другое воспитание, все другое, это вы понимаете. А вот у нас поднялась вся страна на призыв. Вот почему слово «целинник» стало синонимом слова «героизм». А героизм — это, можно сказать, нарушение. Нарушение привычных норм, привычных представлений о человеческих возможностях. Я вам прописные истины говорю, Женя, но это потому, что вы так свой вопрос поставили, можно обидеться. Райком, выходит, ничего не знает. Медики знают, шоферы знают, а райком нет, толстокожий какой! Да, к вашему сведению, у нас на каждом заседании вопрос о быте. И вот здесь, среди фундаментов, мимо которых вы каждый день проходите, есть и фундамент общежития для шоферов. Видите, как получилось, еще с жильем не устроились, а уже миллиард пудов выдали! Вы только представьте себе, в одной только Кустанай-ской области создано девяносто четыре совхоза. Жилые дома, детские сады, клубы, магазины... Попробуйте закрыть глаза и представить мысленно наш край, частицу земного шара...— Николаев прищурился и плавающими движениями развел руки в стороны.— Черная, вспаханная, чуть выпуклая земная поверхность. И на ней поселки. Один, другой, третий... и так до девяносто четырех. Устанешь, пока все это мысленно представишь, пересчитаешь. И все это появилось на голой земле за какие-то два года! Все-таки, еще раз скажу: целина — это героизм, как бы громко и выспренно это вам ни показалось. Коллективный героизм, наиболее массовый в наши дни. И мы с вами, Женя,— здесь, вместе со всеми.
Он разговорился оттого, что она внимательно, неравнодушно его слушала, часто поднося пушистую рукавичку ко рту, словно боясь перебить Николаева и сказать что-нибудь не так, невпопад.
Когда переходили накатанную дорогу, Женя поскользнулась и ухватилась за Николаева. Он согнул свою руку в локте, чтобы ей удобнее было опереться. Но, выйдя на тропинку, Женя отпустила его, словно не желая связывать прежнюю его свободу.
Они говорили о любимых книгах, о знакомых людях, говорили гак, будто были давно знакомы, потом расстались, соскучились друг без друга и сейчас не могут наговориться.
— Вам еще спать не хочется?— Женя не стала ждать ответа, тут же предложила:—Давайте еще побродим, выйдем на простор, на аэродром, давайте?
— На простор так на простор,— согласился Николаев.
На белом поле едва темнела сторожка. К ней вела узкая тропинка и две еле заметных полосы санного следа. Николаев старался идти сбоку, уступая Жене тропинку. Плотный наст под его шагами часто обрушивался, он оступался и взмахивал руками
Сразу по-степному потянуло ветром, зазнобило, по ногам заструилась поземка. Они добрались до «аэропорта» – утлой темной саманушкп — и спрятались от холода у стены на подветренной стороне. С крыши сугробом списал снег, Николаев нечаянно задел его шапкой, и снег густо посыпался им на головы и плечи.
— Нарочно?!—вскричала Женя.— Ах так!—И, подпрыгнув, сбила другую снежную губу с крыши.
— Да я нечаянно,— оправдывался Николаев, отфыркиваясь и пытаясь отряхнуть Женю от снега.— Извините, больше не буду.
— Тогда ладно,— миролюбиво согласилась Женя.— Тогда давайте и я вас отряхну.
Ему было смешно от ее детской игры, но странно, он и сам поддался этой игре.
В саманушке гудела труба. На исхлестанной дождями стене глянцевито поблескивали прожилки соломы. С обеих сторон подсвистывал ветер, не проникая, однако, в тот затишок, где они стояли. Тактичный, милосердный ветер...
— В детстве я очень любил прятаться от дождя в шалаше. И как только заберусь в шалаш, в любую погоду, так сразу мечтаю: вот бы дождь пошел! Здесь сухо, тепло, а рядом шуршат и звучно так стучат капли по сухому сену и по листве. В дождь по-особенному пахнет сено, из него выбивается удивительно ароматный запах! Уютно становится в шалаше, хорошо. А вот почему — и не скажешь.
— Понимаю, понимаю!— обрадованно подхватила Женя.— У меня так тоже бывало, только в городе, где-нибудь в сквере. Но там ведь тоже трава, и тоже бывает дождь.— Она говорила так, будто ей не хотелось отдавать преимущество селу перед городом.
— И сейчас вот... ветер, степь, холод, а мы в затишье, возле какого-то подобия человечьего гнезда.
– И нам тоже хорошо, а от чего, не выразишь, правда?
Помолчали, потоптались на месте.
–– Я заметила, что вы за весь вечер не сказали ни разу слова «некогда».
— Вон как!— удивился Николаев.— Впрочем, я не люблю это слово. Можете ли вы с Грачевым сказать, что вам некогда операцию делать?
Женя только усмехнулась.
За саманушкой шуршала поземка, в трех шагах перед ними наметала полукруглый, как подкова, сугроб.
— Давайте зайдем в саманушку, разожжем огонь, и получится еще интереснее, чем в вашем шалаше. Там наверняка есть котелок, наберем снегу и вскипятим чаю. Вот будет здорово. Чай из снега и с запахом дыма, давайте?
Николаев решительно взмахнул рукой.
— Давайте!
Они снова боком вышли па ветер, к двери и увидели на ней висячий заиндевелый замок.
— Ну заче-ем,— разочарованно протянула Женя.
— Взломаем?—задорно спросил Николаев, сбивая варежкой иней с замка.
— Нет, нет, в другой раз!— забеспокоилась Женя, сразу поверив, что ему ничего не стоит взломать замок. А ведь кто-то его повесил, значит, он кому-то нужен.— Будут завтра искать, кто это здесь хулиганил ночью, милицию позовут.
Николаев рассмеялся, но согласился с доводами Жени.
Они пошли обратно в поселок, ступая как будто не по снегу, а по тугому ветру.
Возле дома Женя сняла рукавичку, подала руку.
— До свидания.
Он торопливо стянул варежку, коротко пожал ее руку и сказал:
— Наденьте рукавичку, пальцы замерзнут.
— Какой заботливый!
Он улыбнулся,— что тут особенного, не нашел, что ответить.
— Вы заходите к нам,— без всякой связи сказала Женя.— Что передать Леониду Петровичу?
— Спасибо, ничего не передавайте. Я просто так зашел, развеяться.
— Ну и как, развеялись?
— Медицина и здесь оказала свое благотворное воздействие.
— В таком случае, заходите почаще. У медицины тоже бывает желание развеяться...
Домой Николаев шагал стремительным, пружинистым шагом, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. И совсем не потому, что ему надо было спешить, нет. Вспомнился Омск, студенчество, весенние ночи, когда он догонял последний трамвай, пробегая порой за ним целый прогон. Прошло уже с той поры восемь лет, немало, но ему кажется, что он совсем не изменился, меняется только жизнь вокруг, а он — прежний, молодой и резвый. Иду, бегу, дышу, надеюсь!
Однако почему она сказала вскользь, что он старше ее лет на десять-двенадцать. Для чего она эту разницу отметила?
— Постой, постой, пошевели извилинами,— проговорил он себе и замедлил шаг, готовый снять шапку, остудить голову и поразмыслить. Лучше поздно, чем никогда.