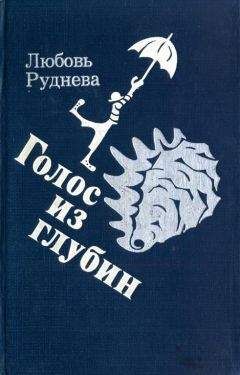Иван Щеголихин - Снега метельные
В заброшенном морге вкрутили лампочку. Было холодно, мерзли руки. Хирург, натянув две пары толстых резиновых перчаток, делал вскрытие. Голый окоченевший труп лежал на голых досках. Черные волосы запеклись кровью, высокие брови застыли в недоумении. Сейчас Суббота напомнил Жене сына Тараса Бульбы Андрия. И некому было пожалеть его... Хотя теперь-то его пожалеет каждый.
28Николаев перебрал письма. Последним лежал конверт без обратного адреса. Николаев поморщился,— похоже, анонимка. Но крупный, непорочно-школьный почерк вызывал доверие. Николаев надорвал конверт, вынул листки, нашел в конце подпись «Соня Соколова». Листки вдобавок пахли духами, каким-то цветком, кажется, ландышем.
«Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать...— начал читать Николаев.—Если вы когда-нибудь мечтали спасти человека от гибели, а кто об этом не мечтает, то ваша мечта сбылась.
Вы меня наверняка позабыли, с того дня у вас было много более важных дел. Но я вас помню всегда. Сначала помнила из чувства благодарности, потом благодарность переросла в надежду на то, что моя судьба и впредь будет связана с вами, но скоро я поняла, что надежда моя может перерасти в отчаяние, именно потому, что я для вас ничего не значу. Это мое письмо-признание нисколько меня не унижает, ведь я ничего не требую от вас, не домогаюсь взаимности, просто сообщаю, что вас помнят, о вас думают...
Вы знаете, наверное, что сегодня распростился с жизнью тот самый человек, из-за которого мне пришлось перенести столько страданий. Как жил, так и умер. Мне кажется, что он совсем не жил, а только бежал — от меня, от другой девушки, от своей работы, от всякой трудности, и получилось, в конце концов, что бежал от жизни, все свои молодые годы стремился к гибели, торопился не в ту сторону и наконец добрался до своего закономерного финиша. А вы берете на себя любую трудность, большую и малую, поэтому вы будете жить долго, на земле плюс еще и в памяти.
Вы похожи на моих любимых героев из книг. Я все знаю о вас, вернее, многое знаю. Вам тридцать два года, вы родились в деревне, окончили с отличием Сельскохозяйственный институт в Омске, работали агрономом. Только вот не знаю, любили ли вы кого-нибудь. Вы скрытный и замкнутый, хотя и работаете все время с людьми. Мне кажется, нет, не любили, а жаль, что у вас нет личной жизни.
Я знаю о ваших делах, слушаю ваши выступления, иногда бываю совсем близко возле вас, но так незаметно, что вы не успеваете со мной даже поздороваться.
Теперь я сообщу вам такой факт, который вы можете расценивать, как вам захочется. Я поменяла свою комнатку на другую и сейчас моя дверь, представьте себе, прямо напротив вашей. От угла моей комнаты вы делаете тридцать два шага до своей двери, если вы в хорошем настроении, и двадцать восемь, если в плохом. По вашим шагам я знаю, что в плохом настроении вы решительны, готовы бороться, шагаете шире и стремительней. Когда вам грустно, вы идете неслышно, словно боитесь расплескать свое настроение, и я тогда сбиваюсь со счета...
Я убеждена, что человеку без слабостей трудно жить. Я, может быть, неточно выражаюсь, но нельзя оставаться всю жизнь каменно сдержанным. Вам необходима своя личная жизнь, как мне кажется.
Теперь я... (дальше несколько строк были густо зачеркнуты, осталась одна фраза) «обезопасить себя от дальнейших осложнений». Соня Соколова».
Николаев осторожно сложил листки в конверт и подпер кулаками голову. Вот тебе и анонимка.
«Еще одной заботой больше»,— подумал он, однако без всякой досады. И если по другим делам он старался сразу же принять какое-то решение, то здесь отодвинул, пусть все останется, как есть и развивается само собой, естественно. Пока он ничего не предпримет, но именно пока, а потом...
Потом зайдет как-нибудь в дверь напротив и скажет, что все правильно, личной жизни у него нет, поскольку он для нее, видимо, не созрел...
Вспомнился вдруг Грачев, настойчиво влез в сознание. Как он вошел к нему тогда поздней ночью, хмурый, потерянный, действительно каменно сдержанный, если не сказать окаменевший.
«Как у него дела сейчас? Надо бы зайти...»
Но он зашел к Николаеву по причине вполне определенной.
А теперь вот и Николаева потянуло к Грачеву. Не странно ли?
Похоже, ему навязывают личную жизнь, а у него, как ни крути, ее нет. И почему-то личная жизнь непременно связана с женщиной, с семьей. Видно, без всего этого ты еще не личность.
«Ладно, Соня Соколова, так уж и быть, «проявлю слабость...»
Вечером он пошел к Грачеву. У крыльца подумал, с чем иду, что скажу? Да, может, и ничего не скажу ничего не скажу...
Потянул дверь и вошел в коридор. Из кухни клином падал неяркий свет.
— Можно войти?— громко, весело спросил Николаев, как спрашивает гость, пусть нежданный, зато с подарками. Во всяком случае, цену себе знающий.
Из кухни выглянула Женя, в халатике, простоволосая, прядка опустилась на щеку.
— Проходите,— сказала она несколько растерянно, узнав секретаря райкома.
— Леонид Петрович дома?
— Нет, он в больницу пошел.
Женя ждала, что Николаев накажет ей что-то передать Грачеву, случилось, видимо, что-то важное. Он еще ни разу не заходил к ним, а тут вдруг пожаловал.
— Я просто так, на огонек,— сказал Николаев, глядя в пол.— Посидеть, поговорить.— Он переступил с ноги на ногу, колесом повернул в руке шапку.
— Он скоро придет. А посидеть и поговорить вы можете и со мной.— Она легким движением взяла у него из рук шапку.— Снимайте пальто, проходите, у нас тепло... Я сегодня домовничаю с Сашкой,— продолжала она, когда Николаев прошел на кухню, жмурясь от света и печного тепла.— В роли воспитательницы и сторожихи. Ребенку скучно. «Если,— говорит,— оставите меня одного, я наш дом спалю». Как вы думаете, еще не все потеряно?— без всякого перехода спросила она и, видя, что Николаев не сразу понял, о чем речь, уточнила:— Они еще могут помириться?
Николаев пожал плечами.
— Ирина Михайловна не пожелала со мной встретиться,— сказал он виновато.— Я, видимо, не подходящая фигура для доверительного разговора. Или у нее нет потребности делиться с кем-то. Но я успел поговорить с Хлыновым.
— Интересно! И что же Хлынов?
— Натура дура, говорит. Люблю и все.
— Есть поговорка по-латыни: натура санат, медикус курат. Перевести можно, примерно, так: природа оздоравливает, а врач только следит, лечит. Может быть, и здесь лучше предоставить все естественному течению? Я уже столько раз ошибалась в своих действиях, что уже просто боюсь, что-нибудь не так сделать. Но ведь и равнодушной нельзя оставаться, смотреть и молчать в тряпочку.
... Если бы Николаева потом спросили, какая она, Женя, опишите, пожалуйста, он ответил бы только одним словом – очаровательная. И не стал бы ничего описывать, потому что не запоминалось в ней ничто, не выделялось,— ни лицо, ни одежда, ни волосы, одни только ясные, именно очаровательные глаза.
— Все это сложно, Женя,— сказал он мрачновато, и в тоне его прозвучало нежелание продолжать тему.
Наступило молчание, тягостное для Николаева: пришел в гости и молчит, как пень.
Женя взяла кочергу, присела у печки, открыла дверцу и стала ворошить угли.
— Вы сами топите?— спросила она, клоня голову к плечу и морща лицо от жара.
— Да, сам топлю.
— Вы, конечно, родились не секретарем райкома?
— Нет,— улыбнулся Николаев.— И не в рубашке.
— Я слышала, вы агроном?
— Да.— Он не мог прогнать улыбку, уж слишком серьезно, деловито, прямо как на допросе, говорила Женя.
— Непохоже, прямо вам скажу.
— Почему?
— Агрономы вроде пчеловодов — старики с бородой.
Он рассмеялся.
— Вот меня и прогнали из агрономов — бороды нет.
— А чему вы смеетесь? Кстати, вы и на секретаря райкома не похожи, если уж на то пошло. Я когда приехала, сразу услышала — есть тут грозный Николаев. Думаю, что за Николаев? Солидный, думаю, лет пятидесяти, медлительный, седые виски, как в кино, одним словом. А потом удивилась: такой молодой! Помните, как я лихо вам прививку сделала?
— Спасибо, с тех пор не болею. Только вот говорят, нет у меня личной жизни,— ни с того, ни с сего вдруг вспомнил он.
— А у меня ее — хоть отбавляй. Из-за всякого пустяка переживаю.
— Значит, личная жизнь — это переживания, вы так понимаете?
— А как же еще? Мир живет, земля вращается, а лично ты сидишь и страдаешь. А вам, наверное, и пострадать не дают, все дела да дела, то один, то другой. А знаете, что я вам скажу!— вдруг оживилась Женя, как бы самой себе изумляясь.— Личная жизнь для вас — это переживания других! Правильно? Это же вас трогает, беспокоит?
Николаев развел руки, дескать, куда денешься, трогает, беспокоит...
— А вам никогда не хотелось казаться старше?
— Да н-нет как будто,— растерялся он.— А зачем?