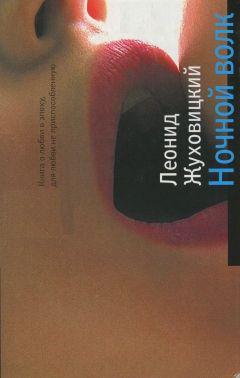Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…
— Он боится, что его будут преследовать за критику?
Я усмехнулся типовой наивности ее вопроса:
— Да нет, все проще: боится, что не напечатают.
— Но он пробовал?
Я пожал плечами:
— Как–то попробовал — лет семь назад… С тех пор привозит блокноты, полные материала, и складывает на антресолях… Собственно, за это он и расплачивается. Вот так ходит целыми днями по редакции, хватает всех за руки и рассказывает то, о чем должен был написать. Как корова с полным выменем, которую не доят.
Светлана, помолчав, спросила:
— Может быть, он напишет потом?
Очень уж ей не хотелось расставаться с образом бородатого супермена, интеллектуального хозяина тайги.
Я невесело ответил:
— Ни черта он не напишет. В тридцать лет поздно делать долги, пора расплачиваться.
— За что?
— За все. Что сделал и что не сделал. Вот он расплачивается за растраченный талант и за трусость.
— Ты ему об этом говорил?
— Конечно.
— Ну, и что?
— У него есть теория. Говорит, что может работать только при полной уверенности в успехе. Поэтому сперва доберется до вершины — как угодно, хоть ползком. А уж там, на вершине, покажет…
Я усмехнулся и грустно покачал головой. Вероятно, все это было бы смешно, если бы речь шла не о Мишке Зубачеве.
Светлана задумчиво морщила мягкие светлые брови, и это было понятно: в восемнадцать лет любую теорию можно принять всерьез.
Я сказал:
— Не бойся, он ничего не покажет. Можешь почитать его очерки. Еще не дополз до вершины, а уже разучился ходить…
Мы с ней прошли уже две автобусных остановки, так что теперь прямой смысл был идти до метро пешком. Злость на нее прошла, а идти рядом с ней не было неприятно — но и приятно тоже не было. Никак.
Я посмотрел на нее сбоку и опять подумал: в чем–то очень существенном она похожа на Таньку Мухину. Обе живут, словно очертив круг. Только у той в кругу — журналистская карьера и муж, который должен быть инженер, у этой — идеал. Все, что вне круга, — лишь материал для познания. И у той, и у другой. Хотя методы познания столь различны…
Светлана спросила:
— А он может сейчас что-нибудь сделать, чтобы вышло по-другому?
Я не сразу понял, что это она опять о Зубачеве. Оказывается, чтобы привлечь внимание восемнадцатилетней девочки, не так уж много надо: романтическая профессия, бывалый вид и какая-нибудь теория. Какая — это уже не важно…
Я сказал:
— Как по–другому?
Она помялась:
— Н–ну… чтобы он ни за что не расплачивался.
Я ответил:
— Так не бывает. Расплачивается каждый — это лотерея безвыигрышная.
Наверное, с минуту мы шли молча. Я думал не о Зубачеве, а почему–то о Касьянове, о Якове Семеновиче. Он–то за что расплачивался?
Да нет, было за что. За мягкий характер он расплатился Одинцовым в начальниках, за высокую журналистскую добросовестность — инфарктом в таежном поселке, за бескорыстие — женой, которая все–таки не выдержала комнатушки в коммунальной квартире и заводской безгонорарной многотиражки…
Наверное, Светлана тоже думала о своем, потому что спросила:
— Значит, и я за что–нибудь расплачусь?
Я пожал плечами:
— Ты же не исключение.
— А за что?
Она спросила и вся напряглась, ожидая ответа. Неужели он ее действительно так интересовал?
Острить мне не хотелось, врать было незачем, и я сказал то, что думал:
— Тебе есть за что расплачиваться. Хотя бы за то, что от тебя на Земле никому ни тепло ни холодно. Живешь, как устрица в раковине. Пока тебя не тронут, не шевельнешься. А кольнут в мякоть — отодвинешься в безопасное место и переживаешь ощущение. Ты хоть одному человеку на свете сделала что–нибудь хорошее?
Я не думал, что она возразит, — что можно возразить на такую тираду? Но хоть обиделась бы!
Нет, не обиделась — все так же шла рядом со мной, только румянец стал гуще да взгляд мрачней.
— А расплатишься ты паршиво, — сказал я. — Ты достанешься подонку. Не выберешь, а именно достанешься.
Она глухо возразила:
— Но ведь это зависит от меня.
Я невесело покачал головой:
— Что от тебя зависит! Ты ведь заранее знаешь, кто тебе нужен. Ходишь с меркой и прикладываешь, А настоящий человек может быть только самим собой… Вот подонок — он примет любую форму. Чего изволите.
Мы перешли улицу. Машин вокруг было до черта, но я даже не взял ее за локоть. После того эпизода у окна мне не хотелось до нее дотрагиваться.
Мы вышли на тротуар. Она молчала.
Я сказал:
— Это еще не самое плохое. Хуже всего, что он на тебе женится. Самые удобные жены выходят из идеальных дев — а подлецы в этом знают толк. Так что готовься. Будешь жить с подлецом, штопать ему носки и рожать детей, которые пойдут в отца.
Не поднимая головы, она спросила:
— Ты действительно так думаешь?
Я ответил:
— Вариант не единственный, пожалуй, но самый вероятный.
Станцию метро мы тоже прошли. Но я успокоил себя тем, что надо же когда–нибудь кончить этот разговор. Мы шагали довольно быстро, и я ее спросил:
— Ты не устала?
Она мотнула головой:
— Нет…
Потом мрачно спросила:
— Значит, все должны расплатиться?
— Наверное.
— А ты?
Я пожал плечами:
— О себе говорить трудно.
«А в самом деле, — подумал я, — мне–то за что предстоит расплачиваться. Тоже ведь, наверное, есть за что…»
Но вспоминать свои грехи я не стал, потому что не было ощущения греховности. Вот уже года три я делал все, что считал правильным. Я писал то, что хотел, так, как хотел, и никогда не пытался выдать дерьмо за мрамор. Наверное, можно было сделать больше и лучше — но вот что?
Я вспомнил самый неудачный свой материал за последний год — тот злосчастный репортаж с канала. За него мне было стыдно до сих пор. Но ведь никто не работает постоянно на предельных нагрузках…
Я понял, что критикую себя, как опытный подхалим уважаемого товарища начальника, и прекратил это мысленное фарисейство. Если есть, за что расплачиваться, — когда–нибудь расплачусь.
Вот за девчонок с первого взгляда, за веселые и легкие приключения молодости — за это расплачусь, тут уж никуда не денешься. Хотя бы тем, что, когда Д. Петров будет со своим сыном гулять на лыжах в Крылатском, мой еще будет пачкать пеленки и бессмысленно таращить круглые глаза…
Светлана спросила:
— А во сколько люди начинают расплачиваться?
— Бог его знает, кто как. Пожалуй, лет в тридцать. В общем, кому как повезет.
Она сказала:
— Но ведь тебе уже тридцать лет.
Я ответил, потому что действительно так думал и потому, что мне хотелось ее подразнить:
— Для себя я хочу легкой судьбы: отдать все, что умею, взять все, что хочу, и расплатиться за это смертью лет в восемьдесят.
На это она ничего не возразила и вообще ничего больше не спрашивала, пока мы не дошли до остановки автобуса, идущего на Сетунь.
Я сказал:
— Ну, вот и все. Теперь я поеду, а ты ступай в институт.
Она тихо сказала:
— Все равно я уже опоздала.
Мы стояли на остановке друг против друга, и какая–то любопытная старушенция замедленно шла мимо, держа равнение на нас. Я подождал, пока бабка выйдет из пределов слышимости, и резко сказал Светлане:
— Ты хоть понимаешь, что парня лучше, чем Сашка, ты никогда в жизни не встретишь?
Она долго молчала. Потом ответила:
— Понимаю.
Она проговорила это негромко, не поднимая глаз и все–таки с каким–то не совсем ясным мне вызовом.
Я сказал:
— Ну что ж, думай сама. Ты взрослая.
Подошел наконец автобус, и я поехал в Кунцево разбираться в коридорной склоке — налаживать мирное сосуществование в квартире, где на семь хозяев двадцать четыре замка…
Вечером в больнице я встретил Сашку и сказал, что со Светланой поговорил.
Он глухо спросил, не глядя на меня:
— Ну, и что?
Я сдержанно ответил:
— Думаю, все будет в порядке. Вряд ли эта блажь надолго… Светлану я больше не встречал — ни в корпусе, ни на скамейке перед ним.
Правда, дня через четыре я увидел у Юрки на тумбочке апельсины. И действительно, Юрка сказал, что Светлана заходила. Но подробности я выспрашивать не стал. Зато о Юркиных делах расспросил подробно и про себя подсчитал, что сегодня его кололи пять раз. Днем в него вливали чужую кровь, утром брали его собственную, а еще три раза манипулировали шприцем во имя чудодейственного препарата Егорова… В этом было что–то унизительное: все равно что обратиться за помощью к знахарю или к богу. Мне кажется, это чувствовали все: и шеф, и Сашка, и даже сестры, коловшие Юрку. Только сам он со своим обычным нудным фанатизмом относился к дозам, анализам и термометрам. Верил? Вряд ли, он парень умный. Просто чувствовал себя при деле.
Но в этой бесперспективной суете белых халатов вокруг Юрки была все же своя магия. Краем она задела и меня.