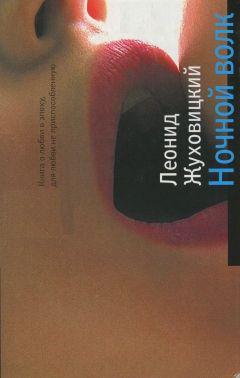Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…

Обзор книги Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…
Леонид Жуховицкий
«Остановиться, оглянуться…»
Роман
Часть первая
Тот день был самый обыкновенный, как говаривали в старину, прекрасный летний день, странный, полный почти несовместимых событий, — обычный день газетчика.
Я прилетел рано, при сером, еще прохладном небе. Но пока шагал по тяжелому бетону аэродрома, пока ждал чемодан, пока переводил стрелки часов почти на полциферблата назад, все вокруг светлело, розовело, становилось отчетливей и ярче.
Две аэродромные девчонки в серых форменках, обнявшись, глядели на дальний лес, из–за которого вот–вот должно было ударить солнце. Я улыбнулся им с чувством некоторого превосходства — я уже видел солнце четверть часа назад, когда самолет, накренясь, разворачивался над Внуковом.
Потом был мчащийся к городу автобус, стремительный, по–звериному упругий. Он легко обгонял «Москвичи» и «Волги», подрагивая от избытка силы.
Я сошел в центре, в самом центре, на площади, где начинаются лучи едва ли не всех московских магистралей, на старой узковатой площади, забитой еще дремлющими автобусами Аэрофлота. Какой–то таксист приоткрыл дверцу машины, предлагая за полтинник торопливо перелистать десяток гулких, пустых еще улиц. Я покачал головой — утренняя Москва выпадает мне не так уж часто.
Чемодан легко и плавно покачивался в руке. Я шел Новым Арбатом. Широченный проспект был тих, чистый асфальт отсвечивал голубым, и позади меня до самого Кремля не было никого, а впереди меня на квартал, сонно поводя головой, топал какой–то парень. Он был в белой рубашке, пиджак висел за спиной, как дорожная кладь. Парень шагал размашисто и гулко, а я ему немного завидовал: в такой час возвращаются домой только счастливые.
Потом из переулка вывернулся какой–то ошалелый велосипедист. Он катил на гоночном, пригнув голову к рулю. Обогнал меня, обогнал того парня; и еще долго маячила впереди, уменьшаясь, его оранжевая спина, крест–накрест перечеркнутая запасными трубками.
Кое–где уже светили белыми фартуками дворники — ранние пташки города. Но они хозяйничали во дворах и на тротуарах. Так что весь огромный проспект в этот час принадлежал нам троим: мне, счастливому парню с пиджаком за спиной и ошалелому велосипедисту в оранжевом свитере…
Моя улочка была разрыта — вдоль тротуара тянулись груды колотого асфальта и сыроватые песочные валы, похожие на брустверы. За этой оборонительной линией стоял наш дом, трехэтажный, приземистый, — обычный переулочный дом, старый, но без родословной, вряд ли когда–либо знававший лучшие времена. А у подъезда действовал наш дворник Гаврила Яковлевич — неторопливый, с лицом философа.
— Роют? — крикнул я ему.
— А как же! — с достоинством ответил он. Я отодвинул деревянную предохранительную ограду и по шаткой трубе перебрался через траншею.
— Приехал? — сказал Гаврила Яковлевич. — Понятно.
Неделю назад он почти так же проводил меня:
— Уезжаешь? Понятно.
Счастливый человек — все ему понятно!
Я взбежал на третий этаж, открыл входную дверь своим ключом и быстро прошел по длинному пустому коридору, мимо пустой кухни, мимо молчащего телефона, мимо дверей, за которыми тихо ждали семи будильники, электробритвы и пластмассовые ящики радио.
Я поставил чемодан у двери своей комнаты. Неделю назад я ушел отсюда на работу, не успев даже застелить кровать; С тех пор я четыре ночи спал в четырех разных постелях, одну — в телеге, на сене, две ночи вообще не спал. А теперь я вернулся с работы.
Я нашел ключом замочную скважину, я прикрыл глаза и, расслабив наконец плечи, разом впустил в тело усталость.
Я люблю свою комнату. Она свалилась на меня, как подарок, выпала нашей редакции при одном из распределений. Все очередники от нее отказались — они надеялись на лучшее. Я ни на что не надеялся. И комната досталась мне.
Она узкая и длинная. Восемь квадратных — все, что нужно, и ничего лишнего. Кровать, письменный стол, полка с книгами, холодильник, вешалка и огромный подоконник, на котором можно играть в пинг–понг. Отличная комната — девушки говорят, что берлогу настоящего журналиста они представляли себе именно такой.
Я открыл дверь. В комнате было почти светло: за окном уже начался день, а штор у меня отродясь не было. На письменном столе лежала книга, раскрытая мной неделю назад. На вешалке висела кепка — в последний момент я решил ее не брать. А на моей кровати спала женщина.
Она спала, уткнувшись носом в согнутый локоть, ровно, почти неслышно дыша, — обычная женщина, не слишком красивая, не слишком молодая, в меру усталая. Впрочем, у нее было время отдохнуть — стрелки на моих часах только начали подбираться к шести.
Ее вещи были удобно разложены и развешаны на единственном стуле, поверх кофточки бережно и нежно пристроены тонкие чулки — один с аккуратной штопкой на носке. Рядом на полу стояла большая сумка, слишком приличная, чтобы выглядеть хозяйственной. Она была раскрыта, и я заглянул внутрь. Детские рейтузы, полиэтиленовый мешочек с бутербродами, книжка и разная мелочь, с помощью которой женщины за десять предрабочих минут ухитряются стать немного красивей и моложе.
Я осторожно поставил чемодан у двери и прошел к окну. Мой широченный подоконник был непривычен — я не сразу понял, что он просто вымыт. А на нем стоял стаканчик с цветами.
Женщина тихо вздохнула, погладила подушку рядом с собой, и комната сразу стала теплой и живой. Я подумал, что она конечно же москвичка—только настоящие москвички умеют так естественно и уютно располагаться в незнакомой квартире. Да и усталость на ее лице была московской усталостью.
Я отодвинул стаканчик с цветами, сел на подоконник и достал из кармана блокнот. Он был измят и грязен. У журналистских блокнотов вообще короткая жизнь— одна поездка. Вот и этот был весь исписан и исчеркан, последняя запись вылезала на обложку.
Я стал просматривать блокнот. Некоторые фразы были подчеркнуты, иногда даже двумя чертами, а сбоку еще стоял восклицательный знак. Но теперь этим пометкам особенно верить не стоило: на месте кажется важным одно, а когда под руками весь материал — другое. Я разбирался в кляузном квартирном деле, говорил с десятками нужных и ненужных людей, и каждый из них оставил хоть строчку в блокноте.
Вовсе не обязательно было записывать столько. У меня хорошая память, и при желании я мог бы даже сейчас написать очерк, вообще не заглядывая в блокнот. Раньше я так и делал. Я брал памятью, тратил ее, не считая, — первые свои очерки вообще складывал в голове, как стихи. Но я собирался жить долго и работать много, а голова у человека одна — поэтому теперь я щадил свою память, как умный мастеровой щадит инструмент. Память — хлеб газетчика, главное при сборе материала. Еще важна эрудиция и умение пить.
Я отыскал в кармане красный карандаш и заново подчеркнул самое существенное. Теперь оставалось написать. На это у меня будет два дня — сегодняшний можно не считать, сегодня отдых. Завтра я набросаю черновик, послезавтра перепишу начисто, в пятницу утром материал уйдет в секретариат. Нужно будет днем позвонить в редакцию — пусть оставят строк двести в воскресном номере.
За стеной заворковал будильник. Зашевелились шаги в коридоре.
Скоро проснется и женщина, спящая на моей кровати. Мне незачем ее будить — женщины, у которых завтрак в полиэтиленовых мешочках, никогда не опаздывают на работу.
Я слез с подоконника и поставил стаканчик с цветами на прежнее место. Медленно прошел по комнате и осторожно прикрыл за собой дверь.
На улице уже спешил по своим делам разный народ. Ожили такси. И все–таки Москва была еще просторна, спокойна и даже немного провинциальна.
Через час она станет столицей.
Я дошел до остановки. И автобус был еще утренний, легкий, словно делал пробежку после зарядки. Он катил от квартала к кварталу, и никто ему не мешал.
Год назад мой друг Юрка получил квартиру в новом доме. Звонок у них был слишком резкий, и я тихонько постучал. Но Рита открыла почти сразу же.
— Наконец–то! — сказала она. — С самолета?
— С самолета, — ответил я. — Юрка спит?
— Спит. Вчера дежурил до трех. Я сейчас разбужу. Я поймал ее за руку:
— Ради бога!
— Ничего с ним не случится. И вообще, что это за порядок: лучший друг прилетел из Иркутска, а он спит.
— Лучший друг тоже хочет спать, — сказал я. — Если ты деликатный человек, кинь мне на пол какой–нибудь тюфяк погрязней.
— Не говори глупостей, — ответила она. — Прежде всего я тебя накормлю. А пока ты будешь есть, постелю постель.
Мы прошли на кухню. Рита быстро навела порядок на столе, вынула из холодильника всякие тарелочки и мисочки — в этом доме всегда была еда.
— Шикарно живете, — сказал я. — Вообще семейные люди — типичная новая буржуазия.