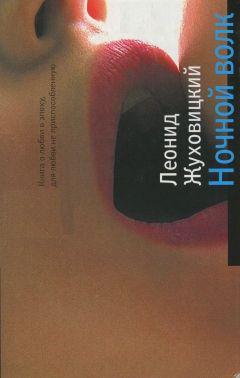Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…
— Знаешь, — сказал он, — ей довольно туго приходится — мать да сынишка, не очень–то разбежишься на восемьдесят рублей. С квартирой еще всякая дребедень… Тут зима скоро, а у нее не то чтобы шубы — чулок теплых нет…
Заглянул было Юркин сосед по палате, но, увидев, что мы разговариваем, прикрыл дверь.
Юрка сказал:
— В общем, у меня есть кое–какие деньги, шестьсот рублей… Короче, я хочу, чтобы ты ей потом эти деньги отдал.
Я чуть было не спросил, когда «потом», но вовремя спохватился.
— Они здесь у тебя? — спросил я.
— Одному нашему конструктору два месяца назад одолжил, как раз перед больницей. Мы с ним договорились, он тебе их завтра на работу занесет.
— А почему ты ей сам не отдашь?
Он качнул головой:
— Не возьмет. То есть возьмет, чтобы не спорить, а потом под каким–нибудь предлогом перешлет Рите. Это у нее идефикс: что она не должна ничего отнимать у моей семьи.
Я промолчал, я считал, что Юрка решил правильно, в конце концов, Ира тоже была его семьей.
Но Юрка был парень пунктуальный и всегда договаривал до конца:
— Понимаешь, ей будет трудней, чем Ритке. У Ритки все–таки квартира, сто двадцать в месяц. На Ленку, наверное, будут платить — я узнавал, там есть такой пункт: по случаю утери кормильца.
— А ты уверен, что у меня Ира возьмет? — спросил я. — Отошлет той же самой почтой.
— Вот в том–то и фокус, — сказал Юрка. — Надо чего–нибудь сообразить. Я уж думал спекульнуть на последней воле умирающего… Но она без предрассудков.
У меня явилось что–то вроде идеи.
— Стой, старик, — сказал я. — А если все сделать так же, только через меня? Мол, ты велел это сделать мне, а для меня твоя воля закон?
Идейка была так себе, и после безнадежных попыток усовершенствовать мы ее зарубили.
Юрка попросил:
— Ты подумай еще, ладно?
Я пообещал, что подумаю.
— А деньги тебе, значит, завтра принесут, — сказал Юрка.
Я сказал, что ладно, пускай приносят.
Мне надо было кончить на этом. Но я не выдержал и кинул все–таки напоследок одну из тех дурацких успокаивающих фраз, которые нужны умирающему, как валерьянка автомобилю.
— Ладно, — сказал я. — Хотя, надеюсь, они тебе самому понадобятся.
Юрка ответил:
— На гроб? Это профком оплатит…
Тут вошла Ира, и мы заговорили о «летающих тарелочках»…
Прошло еще несколько дней, и склон, по которому катился Юрка, стал круче.
Теперь я проводил в больнице почти целые дни.
На работе у меня дела откладывались, запутывались, неразобранные письма пачками валялись в столе.
Как–то пришла Лерочка из отдела писем, сказала, что ее на месяц передали в мое распоряжение в связи с возросшим потоком почты. Я оценил тактичность редактора — этот полковник в отставке умел быть чутким без жеста. После я узнал, что самые срочные фельетонные дела он в это время переправлял Женьке…
Юрка теперь быстро уставал, хотя почти и не двигался. Часов в восемь его уже клонило ко сну, я оказывался у больничных ворот и тупо глядел в мертвые глаза свободного вечера.
Вообще я за эти дни порядком отупел. Единственное, что я мог придумать, это возвращаться домой не на метро, а на трамвае и двух троллейбусах, бросая лишний час под медлительные колеса наземного транспорта.
Лерочка принесла мне какую–то книжку с оторванной обложкой — детектив конца прошлого века. Я читал его перед сном для успокоения. От таинственно похищенных бриллиантовых колье, от подделанных завещаний веяло тишиной, покоем, добродушной, патриархальной провинцией…
Работать, конечно, тоже приходилось. Я разбирал письма жалобщиков, которые, получив квартиру на пятом этаже вместо третьего, писали, что так жить невозможно. Я еще раз съездил в Кунцево, где к двадцати четырем замкам прибавился двадцать пятый, а все семь хозяев по–прежнему клялись, что с такими соседями лучше сразу повеситься. Я писал фельетон о проворовавшемся завмаге, и противно было вспоминать его скользкую моложавую рожу — получит свой червонец, выйдет через три, опять будет комбинировать с ценниками и щупать молоденьких продавщиц…
В один из этих тупых дней позвонил Леонтьев. Я не сразу узнал его, а узнав, не сообразил поздороваться.
Он мягко поинтересовался, как дела у моего друга. В голосе его было почти погребальное сочувствие.
Я бестолково ответил, что, в общем, ничего нового.
Он осторожно спросил:
— А этот… так сказать, препарат?
Я махнул рукой:
— Пустой номер.
Вздохнув, он проговорил:
— К сожалению, этого следовало ожидать… Простите, что потревожил, Георгий Васильевич…
Пришел ко мне, кстати, и тот конструктор, принес деньги. Пачка была довольно толстая, вся пятерками. Дома я сунул ее в ящик стола. Я знал, что это не самое надежное убежище для такой суммы, но лучшего у меня не было.
Странно — я зарабатывал раза в полтора больше Юрки, но столько денег в руках никогда еще не держал. Они приходили легко и быстро, а уходили, кажется, еще легче и быстрей. Наверное, потому, что они мне никогда не были особенно нужны.
А вот Юрке были нужны.
Почему–то считается, что, когда любишь, деньги ни к чему. А выходит наоборот — именно тогда они необходимы по–настоящему…
В больнице я теперь торчал по целым дням, но в палате у Юрки бывал недолго. Я видел, что он устает и от разговора, и просто от присутствия человека. Только от Иры он не уставал.
С Ирой мы здоровались, но почти не говорили. Говорить было, в общем, не о чем, потому что никаких веселых новостей мы не ждали.
По–прежнему каждый день приезжала Рита. Но к Юрке она заглядывала минут на двадцать, не больше, а остальное время стояла в коридоре или сидела на лавочке перед корпусом. Встречая врачей, она глядела на них собачьими глазами, вымаливая хоть сколько–нибудь успокоительные слова. Потом подходила ко мне и говорила испуганно:
— Это так ужасно… Я просто не могу поверить!
На нее было жалко смотреть, и я был бы рад ее успокоить. Но врать сейчас просто не имело смысла — это была бы слишком короткая ложь.
Как–то она опять сказала, что хочет со мной посоветоваться.
— Ладно, — согласился я, и мы пошли в пустынный угол больничного парка, за один из корпусов, где размещалось то ли инфекционное, то ли хирургическое, — в общем, какое–то относительно благополучное отделение.
Ми сели на низкую, без спинки, лавочку, и Рита спросила:
— Гоша, как мне себя вести?
Я пожал плечами и посмотрел на нее.
Она почти спокойно объяснила:
— Я ведь знаю — к нему ходит эта женщина. Когда я ни приду, она здесь.
Я молчал. Я был уверен, что она хочет сказать мне что–то еще — слишком нелепой и кощунственной была бы сейчас ревность.
Рита торопливо заговорила:
— Я понимаю, ему хочется видеть ее, а не меня. Я это прекрасно понимаю, пусть так и будет — со мной он только раздражается, а с ней, наверное, спокоен.
Она вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул:
— Да, так оно и есть.
Сейчас ей можно было говорить правду.
Она жалко улыбнулась:
— Вот видишь, я не такая уж безнадежная дура, как ты, наверное, думал. Ты мне специально говорил неправду — боялся, что не пойму?
Я снова кивнул.
— Нет, я понимаю, — сказала Рита. — Я понимаю — сейчас ему эта женщина нужнее, чем я…
Она растерянно развела руками:
— Но я же должна себя как–то вести. Я же не могу совсем к нему не приходить. И так я не знаю, что думают сестры, санитарки. И Леночка все время спрашивает, как папа…
Надо было ей что–то посоветовать. Но что?
Она сказала с горькой рассудительностью:
— Наверное, для него было бы лучше, если бы я совсем не приходила.
— Нет, это не так, — возразил я.
Это действительно было не так: приходя к Юрке на двадцать минут в день, она избавляла его от угрызений совести.
Я проводил ее до метро и на прощанье сказал то, о чем подумал еще там, на лавочке:
— А ты молодец!
Она снова улыбнулась неловкой жалкой улыбкой. Тогда я сказал глупость — все эти дни я только и делал, что говорил глупости. Я сказал:
— А насчет нее ты не думай — она хороший человек.
Рита замкнулась, поджала губы и проговорила обиженно-высокомерным тоном порядочной женщины:
— Конечно — любовница всегда лучше, чем жена…
А еще через два дня Сашка предупредил, что времени в обрез, и Юрке пришлось решать обычный в таких случаях вопрос.
— Старик, — сказал я ему, — видел вчера твою Ленку. Скучает, к тебе просится. Может, притащить ее завтра?
Юрка долго думал, минуты три, наверное. Потом сказал, что нет, не стоит, — не стоит, чтобы она видела его сейчас.
Я кивнул:
— Ладно, старик.
Вообще–то я не был с ним согласен — дети тоже люди, и прятать от них смерть так же бессмысленно, как прятать любовь. Все равно узнают! Пусть уж лучше узнают правду, а не сплетню о ней.