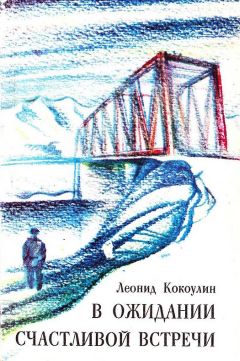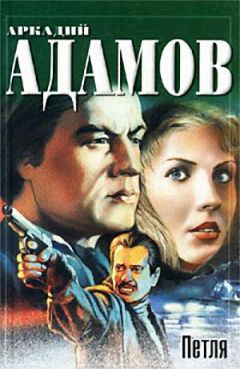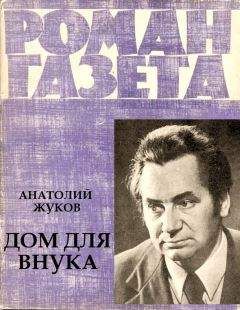Наталья Парыгина - Вдова
8
Хорошо дома.
Даша сидела за некрашеным, желтым, как солома, столом, ела блины со сметаной. Блины бабка Аксинья кидала со сковороды на белое полотенце, да так споро, что Даша и не управилась бы, кабы не помощница. Но племянница ее, Машенька, сильно подтянувшаяся за этот год, оказалась большой охотницей до блинов.
— Пекла бы ты, баба, каждый день блины!
Хорошо дома... Блинами пахнет, огурцами, детскими пеленками, травами сушеными и не поймешь, чем еще. Бабка Аксинья все такая же проворная, платок белый с горошинами надела ради Дашиного приезда, глядит улыбчиво, лицо — в отблесках пламени из русской печи.
— Не жалко было со стройки-то уезжать?
— Сперва думала — и слезки не выроню, — сказала Даша, — а как пришла с девчатами на вокзал, девчата меня провожали, так разревелась — не удержусь никак.
— Где поживешь, там и прирастешь, — заметила бабка Аксинья.
Все в избе осталось, как год назад. Только зыбка висит на крюке — в прошлом году не было зыбки. Мальчик спит, завернутый в лоскутное одеяло. Мишка. Племянник. Зыбки в прошлом году не было, а крюк старый.
— Как Егор-то с Клавдией живут? — спросила Даша, запивая блин молоком.
— Живут... Что ж не жить, — неопределенно проговорила бабка Аксинья. — Дите вот...
— Тебя не забижают?
— Какие же обиды... Когда и попрекнут, так деваться некуда. Старый человек — что пень на дороге.
Огромная русская печь недавно выбелена. На печи постелено старое одеяло, подушка в красной наволочке. Пиджак висит на гвозде у дверей. Ведро с водой, накрытое деревянным кружочком, ковш, перевернутый на кружочке...
До чего же все знакомо и памятно! Светлой печалью томится сердце, печалью и любовью — к родной избе, к бабке Аксинье, к матери... И к брату тоже. Долго нет его. Солнце клонится к закату — пора бы прийти.
Мишка заворочался в зыбке, сморщился, заорал. Голос у него оказался не по росту басовитый. Бабка склонилась было над зыбкой, хотела распеленать малыша. Даша подошла, отстранила ее:
— Дай я.
Неумело развернула пеленку, подняла мокрого парнишку. Он перестал орать, уставился на Дашу глупыми бледно-голубыми глазенками.
— Здравствуй, Миша.
Мишка приветственно дрыгнул голыми ногами.
За окном послышались шаги.
— Егор с Клавдией идут, — встревоженно проговорила бабка Аксинья.
Даша ловчее взяла Мишку, прижала к груди.
Шаги простучали на крыльце. Скрипнула дверь. Первой в дом вошла Клавдия, за ней — Егор.
— Даша! — Егор обнял сестру, поцеловал в щеку, уколов щетиной. — Надолго ли?
— Насовсем.
Клавдия глядела не на Дашу, а на блины, что горкой лежали на белом полотенце.
— Не праздник, — сказала она, — блинами-то баловаться.
Бабка Аксинья, кажется, сразу сделалась меньше ростом.
— Хоть бы поздоровалась, — с укором проговорила она.
Егор виновато улыбался.
Изба показалась вдруг Даше чужой. Печка все так же белела... Да в каждой избе такая печка, разве что погрязнее. Ведро с ковшом... Чужое ведро, новое купили, цинк еще не померк. Стол дожелта выскобленный... Старый стол. А блины на нем чужие.
— Пойду я, — сказала Даша, — погуляю.
***Старая ива приветствовала Дашу, чуть приметно шевеля своими седыми ветвями. Корявый ствол все так же нависал над речкой, и речка была прежняя, неширокая, тихая, и знакомо вздымались за нею в золотистом поле стога соломы. Только показались они Даше непривычно огромными. То ли отвыкла, то ли в самом деле огромные... Да нет, в самом деле. Колхозные. Словно двухэтажные дома.
Даша села на иву, прислонившись спиной к стоячей части ствола. Глядела на речку, на кустарник вдоль берега, на поля с желтыми стогами. В родном краю по-над речкой посидеть — и то счастье. На поля глянешь — сердце лаской заходится, так бы и обняла всю землю, кабы рук хватило.
Солнце опускалось все ниже, косые лучи багрянцем легли на воду, светлым пятном распластались по полю. А под откосом противоположного берега затаилась тень, кустарник казался гуще и темнее. И вместе с сумерками наплывала тревога. Да где же Василий? Неужто не сказала ему Матвеевна?
— Даша!
Даша вздрогнула от негромкого окрика, обернулась на голос. В трех шагах от нее стоял Василий. Не тропинкой пришел — через камыши потихоньку пробрался.
— Даша, — повторил он тихо, чуть не шепотом, и пошел к ней. — Как я наскучился по тебе, любушка ты моя!
Он поднял руку, осторожно провел жесткими пальцами по Дашиному лицу.
— Ну, идем! Идем наш дом глядеть...
Чистым спокойным светом горели звезды в вышине, а земля пряталась во мраке, словно вдова, одетая в черное платье, и ветер едва слышно вздыхал на ее груди.
На краю села в недостроенном доме с наполовину выведенными стенами, с белеющими во тьме оконными коробками отпраздновали Даша с Василием свою свадьбу.
Сперва оба не думали, что свадьбой обернется. Привел Василий невесту поглядеть дом. Потом спохватился, что угостить нечем, хотел к Матвеевне вести ужинать. Даша не согласилась. «Давай здесь поедим». Сбегал Василий домой, принес хлеба, соли, огурцов, кружку алюминиевую да бутылку самогонки ради дорогой гостьи добыл у колхозного сторожа.
Пировали, сидя на ворохе соломы. В своей горнице праздновали встречу. Не было еще над нею крыши, не было дверей и стекол в окнах, а стены были, и пол уже настелен и словно в кресле сидела Даша на соломенном ложе, вытянув ноги и прислонившись спиною к стене.
Соломы Василий давно принес. Когда не было дождя, частенько ночевал тут, кинув на солому тулуп и укрывшись старым суконным одеялом. К осени ночи стали холоднее, и Василий переиначил постель: одеяло клал под себя, а укрывался тулупом.
Не чаял, не гадал он нежить Дашу в холостяцкой этой постели. Да так само случилось. Показал Даше дом. Угостил самогонкой да огурцами. Обнял... Видно, чуть крепче обнял, чем надо было, сжал руки вокруг ее тела, а разжать не хватило сил.
Темна осенняя ночь. Тиха осенняя Леоновка. Спит. Только собаки изредка погавкают да ветер прошуршит. Свадебным венцом выгнулись в небе яркие звезды.
Лежит Даша у Василия на руке, приникнув щекой к его груди. Случалось, там, в бараке, в бессонную ночь думала о Василии. Тосковала о сильных его руках, о поцелуях его горячих. Маялась в девичьей истоме. Только не ведала, что так все свершится. Без гостей. Без песен. Без праздничного стола.
Василий погладил Дашу по голове. Как-то по-новому погладил, спокойно, по-родному. Заботливо спросил:
— Ты не горюнишься?
— Нет, — сказала Даша. — Бабка Аксинья не спит небось. Ждет меня.
— Догадается, что со мной ты.
— Совестно перед ней.
— Кабы мы для баловства, так было бы совестно. А у нас любовь. Навек я тебе поклялся, Даша, и клятву мою только смерть порушит. Веришь ли?
Василий приподнялся на локте, заглянул Даше в лицо.
— Верю, — сказала она.
И опять долго молчали. Василий закинул свободную руку под голову, глядел вверх.
— Хорошо как под звездами, век бы без крыши жил.
— Без крыши не проживешь, — возразила Даша.
— Скоро накроем дом, будет у нас крыша. В потолке крюк для зыбки сделаем. Сделаем, что ли, крюк?
— Не знаю, — сказала Даша.
Из тьмы вдруг пахнуло на нее духом сырого дерева. И не ко времени представилось, как старик Родион строгал во дворе доски на материн гроб. Строгал и прилаживал по мерке, желтые стружки бились у него под ногами, и вот так же пахло деревом. Нехорошо как — в первую ночь с Василием гроб вспомнился. Не к добру. Помру, что ли, скоро? Или с ним что... Нет. Нет! Пусть уж со мной, чем с ним.
Даша вытянула руку, в темноте провела по полу. Мелкие щепки и стружки зашуршали у ней под рукой. Вот отчего пахнет деревом. Дело ли — комсомолке в приметы верить?
— Завтра в сельсовет сходим, распишемся, — сказал Василий.
Первая осень замужества запомнилась Даше широким и ровным картофельным полем за Плавой, кучными облаками на просторном деревенском небе, прощальными криками журавлей. Даша в женской бригаде убирала картошку. Убирала вручную, мозоли не сходили с рук, но после стройки работа не казалась Даше тяжелой.
Она вспоминала, как рыла траншеи и котлованы. Земля — что камень. И клином ее отбиваешь, и кайлой, и колом где колупнешь... А тут лопата сама идет в землю, чуть только ногой придавишь. Вишь, куст какой богатый попался, картошки — как поросята.
Даша с Василием жили у Матвеевны. Дом все не удавалось достроить, лесу не было и стекла. В начале зимы Хомутов выписал тесу, и Василий собирался было крыть крышу, но председатель велел ему прежде съездить в райцентр во главе красного обоза с хлебом.
— Чугунок купи в райцентре, — попросила Даша, — у нас чугунок вовсе прохудился.
За обедом Василий еще про одно дело вспомнил.