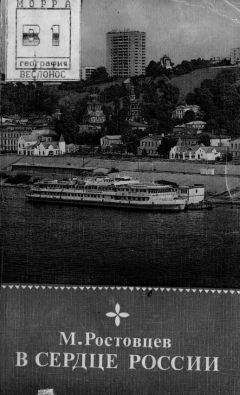Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
…Весна сорок второго года была голодной. Соседние деревни, которые как бы то ни было подкармливали рабочий поселок, тоже оскудели. Дед снова ушел в дальние заокские деревни и к марту привез целых два мешка мелкой, величиной с грецкий орех, картошки.
Бабушка наварила ее большую кастрюлю, душистой, сладко пахнущей, в гладкой кожице. Вся семья без экономии наелась досыта.
Тетя Катя вспомнила, как они чудесно отметили нынешний Новый год вот такой же картошкой, только крупной и печенной в горячей золе печи. Она весело смеялась, подкатывая из своей тарелки в тарелку племянника горячие, все пышущие вкусным парком картофелины. Сережка уплетал за обе щеки и улыбался тете Кате. Ему было приятно, что она сегодня вспомнила о той новогодней картошке.
Было это так. Сергей возвращался из школы, занятия к тому времени уже проходили регулярно, учились они во вторую смену. Мальчишка зашел к своему товарищу, засиделся там допоздна, обсуждая, какой была интересной елка в школе. Жаль только, что Дед Мороз принес подарков всего-то по ломтику черного хлеба. От товарища Сережка ушел только тогда, когда семья собралась ужинать.
У мальчишек той поры был свой, неписаный, но незыблемый этикет: в каком бы доме ты ни находился, чем ни занимался бы, когда там садятся к столу, уходи.
Годы прошли, целая жизнь, а до сих пор чувствует Сергей в сытое, доброе время какую-то неловкость, если его приглашают к столу отобедать ли, отужинать.
Тогда его тоже приглашали, но он солидно, совсем как-то по-взрослому ответил:
— Нет, спасибочко, дома к ужину ждут. Засиделся я у вас.
Никто упрашивать мальчишку не стал.
Он вышел на улицу. Стояла высокая, круглая луна. Гудели провода, мороз щипал лицо. И Сережка, прижимая к боку уже потрепанную, сшитую бабушкой, ученическую сумку, заспешил к дому. Он шел и думал: а хорошо, если бы вдруг он нашел такую вот большую, как луна, карточку! Вот здорово было бы! Он бы испек ее в большом, большом костре и накормил бы всех: и деда, и бабушку, и Тишку, он хотя и маленький, а тоже хочет есть. (Для Тишки Сергей нес пол-ломтика хлеба, полученного в подарок от Деда Мороза. Нес и все время по крошке отщипывал, искренне огорчаясь, что ломтик становится все меньше и меньше.) И ребят накормил бы, весь второй «А».
Переходя большую дорогу, Сережка задержался. Мимо нескончаемой вереницей шли возы. Скрипели сани, тяжело нагруженные мешками, прикрытыми соломенными плетенками, тяжело дышали лошади, белые от копыт до мохнатых ушей — так их, потных и уставших, выкрасил мороз. Рядом с возами шли закутанные в платки, в длинных полушубках женщины, незло и глухо поругивались на лошадей.
Обоз был длинный, и Сережка озяб, не решаясь сунуться под мохнатые морды лошадей, чтобы перебежать дорогу. Он был уже готов побежать в хвост обоза, чтобы обогнуть его, когда вдруг к его ногам что-то подкатилось, упав с воза. Мальчишка нагнулся и поднял круглую, крупную холодную, как льдышка, картофелину.
Он зажал ее в кулаке, сбросив варежку, и, сунув глубоко в карман руку, пошел вслед за обозом. Он шел долго, до самой станции, в надежде, что вот снова к его ногам выкатится картофелина. Иней выбелил мальчонку точно так же, как лошадей, как женщин в тулупах. Замерзли губы, холод забирался под пальтишко, ознобом пробегал по ногам. Не помогали и дареные исподники, а Сережка все шел и шел за последним возом. У станции обоз остановился. Женщины пошли от воза к возу, развязывая в упряжи чересседельники и разматывая ремешки на хомутах.
Сергей стоял, не в силах шевельнуться. Слезы выжал из глаз мороз, и они застыли на ресничках и щеках горячими бусинками.
— Ты что здесь? — наклонилась над ним большая, вся белая от мороза женщина. — Гля-ко, — удивилась она, — совсем закалел. Ты чей, малыш?
Сергей хотел что-то ответить, но не мог, губы не слушались, и слово замерзало на них.
— Господи, закалел совсем. Ты откуда взялся, милай? — И затормошила Сергея: — Чей ты, угодка?
Сергей снова попробовал ответить женщине, и снова слова вмерзли в губы. Он робко вытянул из кармана руку и все-таки, поборов мороз, сказал:
— Вот нашел…
— Что? — Женщина еще ниже склонилась над мальчишкой, присев на корточки, тулуп покрыл ее вокруг широким колоколом, и она стала очень похожа на кукол для самовара, которых любила мастерить бабушка из лоскутков материи. — Что нашел? — снова спросила, близко придвинув свое лицо к протянутой мальчишеской руке. Кулак занемел, и пальцы не хотели разжиматься. — Господи, — вдруг ахнула женщина. — Господи, страх-то какой. — И обняла Сергея, и прижала его к груди, запахнув полами тулупа, и понесла куда-то, что-то приговаривая и причитая.
Потом Сережка сидел на полатях в жарко натопленной сторожке станционного пакгауза, и женщины, одна, и другая, и третья, терли ему щеки шершавыми, как щетки, руками, и разутые ноги, и ладошки, совали ему в карманы твердые, как речные голыши, лепешки и причитали одна перед другой. А та, что принесла его в сторожку, вытряхнула из сумочки тетради и книжки, ушла и скоро вернулась.
— Дом найдешь? — спросила, надевая через плечо тяжелую пузатую сумку.
— Найду, — сказал Сергей, губы отогрелись, и слова больше не примерзали к ним.
— Проводи, Малаша.
И та, что принесла сумку, снова сняла ее с плеча мальчишки и пошла провожать его и проводила почти до самого дома. И, попрощавшись, ушла в ночь, как белая сказочная королева.
Вот о какой картошке вспомнила тетя Катя. А ту, что привез дедушка, больше не ели.
— Это для посадки, — сказал он и спрятал мешки в подпол и закрыл его на замок, сказав: — Это от тебя, старая. Не стерпишь, скормишь посадочный материал. А я стерплю. Резать будут — не выдам, в нем сытая осень и зима. А пока и на пайке до лета дотянем. Там лес кормить будет.
Русский лес. Он действительно кормил, хранил и обогревал не одного русского человека, не одну семью в тяжелые дни лихолетья. Добрый русский лес. Слава тебе, прародитель славян.
С первых летних дней, как только появились грибы, Сергей с бабушкой уходили в лес. Шли через весь станционный поселок, переходили линию и дальше тропкой к березовым чащам, всегда многошумным, всегда радостным.
Тропка бежала по овсяному полю, и как только заколосился, заветвился овес, начали шугать его метелки люди. Обочь тропки на метр с лишним пощипан, обезглавлен овес. Каждый, кто идет, не раз нагнется, ухватит в горсть еще не набравшие силы зерна и мнет их во рту, сглатывая сладкое молочко завязи.
Бабушка шугать овес Сергею не разрешала.
— Разве можно поле зорить? — говорила она. — Грех это.
— Другие-то зорят, — возражал Сергей.
— Другие тебе не пример. Которые, может, по неразумению, а которые и совсем без понятия, что вред несут. А есть и злые. На все: и на человека, и на птицу, и на зверя, и на растение каждое — злые.
— Как фрицы?
— Ну будь так, — соглашалась бабушка.
Сергей поле не зорил, хотя и тянулась рука попробовать мягкого овсяного семени, сглотнуть белую живицу нарождающегося зерна.
Зато каждый раз, когда входили в лес, бабушка из-под фартука из кармашка кофты доставала маленький ржаной сухарь.
И откуда она только брала эти сухари?
— На-ко вот, подкрепися, — и ловко с руки прямо в рот Сергею отправляла жесткий, колючий кусочек.
Сергей, входя в лес, сладко посасывал, словно леденец, бабушкин гостинец и жмурился от белизны леса, от света, от сладкого запаха хлеба.
Навсегда осталось это ощущение. Каждый раз потом, входя в березовый лес, ощущал Сергей, явственно слышал запах хлеба. И это уже навечно, до последней березки.
По лесу бродили допоздна. На вырубках, их много появилось за зиму, уже обжилась и выгнала в спель ягоду земляника. Сергей собирал ее в маленький, слаженный из коры туесок. Ни единой спелой ягодки не клал в рот, только что зеленую, ту, что обманчиво подпалялась с одного края, остальное в туесок — деду.
На все настояния бабушки есть ягоду отвечал:
— Дедушке она полезней. Ему кость крепить надо, и Тишке для выроста тоже нужна. В ягоде железа много.
Дед по весне одной лопатой поднял лежалую веками, утоптанную целину пустыря. Обрядил вокруг дома огород, засадил его картошкой, огородил слегами. Но надломился дедуся, отказали у старика ноги, вспухли, не смог и шагу шагнуть, так и рухнул у последней выкопанной ямки под столб. Лежал дед пластом, не в силах больше подняться, только что и делал — нянчился с Тишкой на широкой постели, да и то, только сказать, что нянчился.
Из леса бабушка с внуком шли нагруженные. Несли грибы, обшаривали в ощупку каждый кусток, каждую ямочку и овражек, несли вязанки хвороста, крапиву для щей, лебеду для каши, ягоды.
И так изо дня в день.
Летом и совсем хорошо стало. С оказией нет да нет присылали отец с матерью посылки.