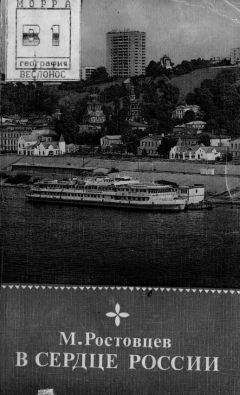Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
Деньги отец высылал регулярно, да обесценились они: на пуд денег — пуд лиха.
О бедственном положении семьи дед запрещал писать.
— Всем трудно, — говорил, — Тихону с Ниной неча сердце рвать.
В Сибирь писали легкие, радостные письма, как и дяде Петру на фронт. Тетя Катя с этим была согласна. Заезжавшим с оказией дед всячески расхваливал свою жизнь, проворство невестки, которая получает и деньги большие и пайки, и уж конечно не упускал случая сказать:
— А мне что, мне нормально. Я на сталинском пайке, как академик…
Проходят, как на киноэкране, перед закрытыми глазами Сергея воспоминания. Все сберегла память, все утаила до срока, а пришло время — выплеснула: смотри, разбирайся, там, в детстве, закладывался ты, Человек, по примеру и воли тебя окружавших, там твое я, начало начал, закваска, на которой подходит хлеб твоей жизни.
Иногда Сергей говорил Сашеньке, с ней ему всегда спокойно и как-то уж очень доверительно на душе:
— Хотите, я вам, Саша, о военной картошке расскажу.
И, рассказав, прислушивается, молчит, чувствует, что тронул его рассказ девушку.
— Я, если слепым останусь, года два только о своем деде рассказывать могу. Я буду рассказывать, а вы записывать. Будете, а? — Шутит.
И Сашенька отвечает серьезно:
— Буду. Только не придется. Вы слепым не останетесь.
— Жаль, — смеется Сергей, а в душе благодарит сестру за то серьезное и решительное, что звучит в ее чуть с картавинкой голосе.
— Почему умерла ваша бабушка, старая была, да? — как-то наивно, по-детски, спросила Сашенька.
— Нет. Она еще крепкая была. От жалости умерла. Сердце у нее было жалостливое, доброе. Я, сколько помню, ни разу громкого голоса ее не слышал. Если даже и рассердится, виду не покажет, только голова мелко-мелко затрясется.
А умерла так. Помните, я вам про дядьку Лешу рассказывал. Так вот, был у него сын, года на три меня младше. Последним родился, нежданным, как у нас говорят, поскребышком.
Рос парень за отцовским забором. Только что в школу сбегает и опять за стену. Отец ему и в пионеры не разрешил поступать. А тут как-то вырвался мальчишка на волю, проайдачил с ребятишками день на речке. Домой возвращаясь, столкнулся у калитки дедушкиного сада (дед на месте картофельного огорода сад насадил) с отцом, и тот стал его драть. Бил жутко, парень сначала в крик, а потом и кричать не может. Бабушка со станции возвращалась, ходила деду за газетами (дед у меня политик крупный был), газеты от корки до корки читал. Увидела бабушка, как лупит дядька Леша своего поскребышка, и бросилась на выручку:
«Нельзя, нельзя! Господи, да что это», — зашлось сердце, не выдержало, слишком многих жалела за жизнь. Рухнула бабушка, да тут и умерла. А была сильной еще. Дедушка ее на пять лет пережил.
После этого рассказа долго молчали.
Саша сказала:
— Скоро у вас повязки снимут. И не будете вы больше тяжелобольным. Вас переведут в общую палату, а меня от дежурств освободят, снова я буду операционной сестрой у Александра Александровича.
— Так сразу и переведут?
— Не сразу. Дня три полежите здесь при общем дежурстве.
— Жаль, а я вам хотел еще много, много рассказать.
— Хотите, я к вам приходить буду, а вы рассказывать мне?
— На людях стыдно о своем говорить.
В палату вошел, как всегда шумно, профессор.
— Как дела, огарок?
— Тлеем.
— Ну, брат, молодцом. Сны видишь?
— Как в кино. Воспоминания смотрю.
— Молодец, с воображением, значит. Курить, тянет?
— Да нет, я как будто никогда не курил.
— Выпить хочешь?
— А можно?
— Нельзя.
— Тогда не хочу.
— Молодец! К тебе бригада просится, вторую неделю покоя не дает. Пустить?
— Пустите, Александр Александрович.
— Всех не могу. Одного только.
— Пускайте тогда Степана Булыгина и остальных тоже.
— Пойдемте, Сашенька, проводите посетителя к больному.
В коридоре профессор остановился, помял подбородок пальцами.
— Завтра, Сашенька, попробуем снять повязки. Больному ни слова. Завтра попробуем…
Глава IX «Тропинка в один след»Ты родился в удивительное время. Но время всегда по-своему удивительно для каждого, кто самостоятельно, уже без материнской и отцовской руки, сделает первый шаг по земле.
Она, зеленая, в травах и листве буйного лета, белая, в искристых сугробах зимы, золотая, оранжевая, рудовая, в осеннем многоцветье мира или вся залитая солнцем и голубыми каплями неба первых весенних распутиц с серебряным горлышком ручья, вдруг замелькает перед тобой, уходя из-под робкого первого шага, и замрет сердце от этого стремительного движения по кругу, и закачаешься, раскинув ручонки, стараясь обязательно удержаться на ногах.
Ты ощутишь, как кружится земля. И, пересиливая это кружение, сделаешь еще один шаг, еще и еще.
И перестанет лихо плясать дальний лес у зеленого окоема, успокоятся травы, и тропинка в один след, которая так раскачивала и бросала тебя из стороны в сторону, вдруг помогая каждому шагу, поведет тебя вдаль, к окоему и за окоем. А он будет уходить от тебя, этот лес, это поле, этот окоем, с каждым новым шагом открывая взгляду Удивительную Великую Простоту Мира.
Все удивительно на земле, от крохотной былинки до мерцания белой звезды над крышей твоего дома.
Удивительно время, в которое рождается человек.
И все-таки то время, в которое родился ты, в котором сделал свой первый шаг, пока еще самое удивительное.
Движение. Стремительный бег, сокращение расстояний — вот то главное, что выпало на долю твоего времени, в которое ты родился.
Ты сделал первый свой робкий шаг под скрип липовых колес грабарок, полков, теперь уже забывшихся пролеток и тарантасов, под скрип санных полозьев и топот лошадей.
Тебя кутали в шубу и везли по белым просторам твоего края, под крик возницы: «А ну, милай, давай, давай, Савраска!»
И Савраска утопал в сугробе, и тяжело отдувался на подъемах, и екал печенкой, пробегая по склизкому накату пути, и радостно ржал, почуяв запахи близкого и теплого стойла. Он вез тебя к железной дороге, где, громыхая на стыках, бежали друг за другом светящейся гусеницей поезда, где высоко в небо кидали гудки «Сталинцы» — «С-90», к трактам-«шоссейкам», на которых пробегали дорогие «эмки», тяжелые «ЗИСы», громогливые полуторки, а где-то высоко в небе, послушный рукам и лихой русской воле Чкалова, плыл к Северному кругу самолет. И на каждого летчика смотрели тогда восторженные глаза землян.
В твоей деревне детства, за конюшнями, где, весело раскинув гривы и смешно подбрасывая зады, мелькали стригунки, деловито кашляли тракторы и, обгоняя потных, твердо упирающихся в землю коней, вели от горизонта до горизонта глубокие, словно бы смазанные маслом борозды.
Ты познал скорость движения, когда принес тебе отец из кузни подбитые полосками голубого железа саночки-леточки. Он делал их всю осень, строгал, пилил, выгибал горьковато пахнущее вязкое дерево, сушил на русской печке, сколачивал, лихо забивая деревянные клинышки и железные гвозди.
И вот сейчас с первым снегом принес тебе санки, послушные, на плетеной, тоже пахнущей деревом веревочке.
Ты выбежал с ними к реке. Взобрался на яр и застыл среди кричащей и хохочущей ребятни. Ты осознал высоту и с нее увидел землю, лежащую там, глубоко внизу, с вороненой спиной твоей речки, с крохотными стожками сена на том берегу, с березовыми дымками из труб родной деревни, со всем тем, что лежало теперь у твоих ног.
О, леденящая, радующая душу и сердце высота! Как далеко видно вокруг и как заманчиво страшно кинуться навстречу всему, что раскинулось там, внизу, под тобою!
Ты еще робко топчешься у стремительного среза высоты, ты еще думаешь, быть или не быть, а ребята, твои товарищи и сверстники, кричат:
— Бояка! Бояка! Ему слабо!
И ты кидаешься на санки животом, приподнятым над землей лицам и летишь вниз, летишь птицей. Санки-леточки обрели крылья. Они несут тебя не по накатному насту снега, а над ним, над землей, над рекой, над стожками сена и березовыми дымками твоей деревни.
Стремительно пролетает все вокруг. И ты летишь, летишь, впервые ощутив сладость полета.
Ты испытатель и никогда не оставишь, не выпрыгнешь из своего самолета — саночек-леточек.
Полет — стремительность движения — время, в которое ты родился.
Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц.
Ты чуть-чуть старше того мальчишки, о котором ничего, еще не знаешь ни ты, ни мир, но и он, как и ты, уже в твоем стремительном, полетном времени.
Ты одно с ним поколение рожденных, чтобы сделать сказку былью.
Твоя страна, твоя Родина плачет над безвременной могилой Чкалова, и ты плачешь над ней, Сережка Поярков, может быть, не так, как взрослые, но по-своему, по-мальчишески. Потому что он был для всех мальчишек твоей страны кумиром.