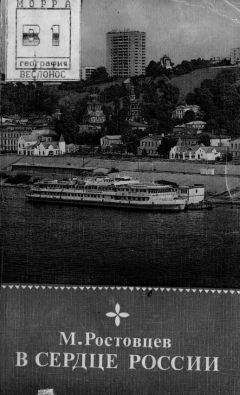Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
Они шли по коридору медленно. Сашенька и нянечка по бокам, Сергей посередине, положив руку на плечо сестре, неестественно прямо держа голову. Он чувствовал неуверенность своего шага и выпрямился, стараясь ступать как можно шире и тверже. Но шаги почему-то получались очень мелкими, и громко стучали шлепанцы.
— Пояркова в операционную повели, — услышал за собой голос больного из соседней с ним палаты. И тут же за спиной и впереди тихо заскрипели двери, к он услышал дыхание людей, замерших у стен. Его провожали десятки глаз.
— Как на расстрел иду, — прошептал, наклоняясь к Сашеньке, и снова уловил шепоток:
— Улыбается.
— Я бы сейчас «Марсельезу» спел, — снова пошутил, — слов не знаю.
— Осторожно, Сережа, тут порог, — поддерживая его рукой, сказала Сашенька и приподняла плечико, словно бы хотела перенести Сергея.
— Вот таким останусь, кто водить будет? С отцом шишаков набьем и ребра поломаем. С мамой много не находишь, — продолжал то ли шутя, то ли серьезно Сергей. — Степке с женой обязательно надо. А то как рассорятся — и друг друга искать.
— Снова порог, — предупредила Сашенька перед дверями операционной.
— Ясно, — поднимая по-аистиному ноги, откликнулся Сергей и, уже входя в затемненную просторную операционную, снова спросил: — Кто поведет?
— Я, — тихо, но так, чтобы слышал Сергей, твердо ответила Саша.
Александр Александрович Губин сидел у стола. Настольная лампа освещала его большие руки и белый халат без единого пятнышка, плотно облегавший грудь профессора.
Чуть откинувшись в кресле, он смотрел из темноты на вошедших.
— Здравствуйте, профессор! — определив интуитивно конец пути, весело сказал Сергей.
— Здравствуй, больной! Присаживайся, Сережа, надо поговорить.
Сашенька придвинула стул и усадила Сергея рядом с Губиным. Профессор взял в свои ладони руку больного.
— Как настроение?
— Прекрасное…
Сашенька отошла, в полутьме наткнувшись на кого-то. Только сейчас она заметила, что в операционной много народу, тут тихо сидели и стояли все ассистенты профессора Губина.
— Сашенька, вы мне нужны. Присядьте рядом, — позвал Александр Александрович.
— Я здесь, — откликнулась Сашенька и села на свободный стул между Сергеем и Губиным.
Где-то за плотными шторами двери часы ударили половину девятого.
В одиннадцать пятнадцать профессор Губин в своем кабинете записал в дневник:
«4 октября 1957 года. 10.00. У больного Пояркова сняты повязки с глаз. Больной различил свет, очертания предметов, узнал медсестру Закатову. Однако уже через 15 минут зрение ухудшилось. Стал теряться свет. Наступила слепота. Осмотрел больного. Требуется срочная новая операция. Больной держался отлично, внешне бодр, пытается шутить. Попросил свидание с отцом. Свидание разрешил. Операцию назначил на 22.00. Больной на операцию согласился. Молодец».
— Внимание, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза!
Замерли у репродукторов и радиоприемников люди. Замерли, улавливая каждое слово такой еще не привычной фразы.
Прохожие остановились на улицах, стараясь выловить из городского шума напряженный голос громкоговорителя.
Таежный охотник-эвенк наклонился низко над новинкой своего древнего чума — спидолой. Отсветы очага шарят по лапнику, расстеленному на полу, по шкурам, по берестяной зыбке, подвешенной близко к огню.
Геологи в пустыне приникли к светящемуся квадратику транзистора; перекрывая рев шторма, врывается голос Москвы в кубрик рыбацкого сейнера, раскалывает тишину высокогорной метеостанции на Крыше Мира, врывается в аулы, стойбища, города, поселки, села, деревни.
Слушают люди: что-то будет? О чем это? Что? — словно бы сердца умерили ход крови, словно бы дыхание стало тише.
— Работают все радиостанции Советского Союза!
Замерла страна, замерла планета, слушает голос Москвы…
Замер голос. Тишина. Пауза. Сейчас снова в мир, по всей планете и дальше, к звездам, к этому такому еще непривычному космосу.
Пауза. Но уже из конца в конец по всей земле:
— Иван! Иван! Ванька, леший. Наши в небо дыру пробили. Слышь, запустили корабль в этот, как ево, космос! Спутник!
— Ура, летит!
— Спутник в космосе.
— Вот это да! Ну, брат, дали по мозгам!
— Даешь космос!
— Палыч, слышишь, наши-то в космосе. Это что же выходит, а?
— Тихон! Тихон Николаевич! Спутник в космосе!
— Летит, заедай его комар. Летит.
— Работают все радиостанции Советского Союза…
— Папань, а как спутник писать? С большой?
— Пиши все с заглавной.
………………………….……
………………………….……
………………………….……
………………………….……
………………………….……
Спутник, спутник, спутник — без перевода, на всех языках, по всей планете.
— Ребята, товарищи, граждане. Можно увидеть невооруженным глазом!
— А в бинокль и того проще.
— Куда смотреть?
— Спутник запустили, облака бы разогнали. Ишь наперло их — непроглядно!
Из края в край, по всей планете, по всей стране: «Спутник! Спутник! Спутник!»
Вспомни-ка, друг, что было с тобой, что было в тебе.
Разве можно забыть, как в предрассветный полусвет гремели железные крыши, как среди веток тополей, берез ли, дубов замирали люди с поднятыми к небу лицами. Как радость, одна на всех, большая, необузданная, врывалась в сердце, в душу. Вспомни-ка, друг, ту фразу, повторенную стоязыко на один лад:
— А мы видели…
Это потом привыкнешь ты к обычным, ставшим обычными сообщениям: «В Советском Союзе произведен запуск искусственного спутника…»
А тогда, тогда — Первый — и радость, и гордость, и еще что-то удивительное одно на всех чувство.
Это потом, в троллейбусе, первоклашка небрежно скажет друзьям: «Что-то скушно стало, запустили бы космонавта…»
Вот оно, время, стремительность движения. И необычное обычно.
Но тогда, тогда от Владивостока и до Закарпатья, от Игарки до Кушки вся страна сидела на крышах.
Домоуправ ошалел. Бегает внизу, машет руками, расшеренился:
— Товарищи, граждане! Серьезные ведь люди! Крышу проломите! Свалитесь! Кому отвечать? Курочкину. Нешто на его с земли глядеть нельзя. Куда лезете, товарищи? Там ограждения неисправные.
— Давай сюда, Курочкин, — басит с крыши шестиэтажного дома Степан Булыгин.
— Об ограждении раньше думать надо.
— Я милицию вызову.
— Вызывай с крыши. Вон он, начальник райотдела, верхом на коньке сидит, за антенну держится.
— Летит! Летит! Летит!
— Где? Где?
— Вон он шпарит!
— Ура-а-а! Ура-а-а-а!
— Ура-а-а-а! — одиноко кричит снизу Курочкин-домоуправ.
Тихон Николаевич, как и тогда, неуклюже протиснулся в палату. Встал на пороге, подхватив большими ладонями полы халата. Халат сегодня на плечах внакидку, руки не заняты передачей. Некуда девать руки, захватил ими полы халата.
Сашенька у окна. Сергей полусидит на кровати. Услышал отца.
— Батя, ты, что ли?
— Я, — твердо ступая, прошел к стулу.
Подле постели на тумбочке рядом с репродуктором — транзистор с нерусскими буквами по черному футляру.
— Слушал, Серьга?
— А то как же? Александр Александрович свою машину принес. А то у нас что-то сеть барахлит.
— Перегрузка, — сказала Сашенька и улыбнулась Тихону Николаевичу.
Он сел, пожал протянутую сыном руку.
— Выходит, по времени, сейчас у нас будет виден. А?
Сашенька посмотрела на ручные часы:
— Да, сообщали, что в двадцать один пятнадцать в нашем районе пролетит. — Поглядела за окно — небо-то какое чистое.
— Жаль, увидеть не придется, — это уже Сергей, по укоренившейся привычке проводя ладонью по бинтам на лице.
— Увидишь еще. Увидишь, сынок. Выходит, побороли все-таки земное тяготение-то?
— Выходит, так, батя. А помнишь, ты на меня ворчал: каждый сопляк трещит, как сорока. Секретность, с небом связано. Помнишь?
— Помню. По делу ворчал.
— Сашенька, открой окно. Все равно рамы-то еще по запечатаны.
— Простудишься, Сережа.
— Нет, я халат натяну и в одеяло меня батя укутает. Помоги, батя.
Сергей неловко нашарил халат на спинке кровати, полез в рукава. Тихон Николаевич помог сыну одеться. Накинул на плечи одеяло, обернул его вокруг похудевшего, мосластого тела сына, завязал узлом на спине.
Сергей, придерживаясь за стул, сделал неверный, робкий шаг к окну. Кружилась чуть-чуть голова.
— Не надо бы этого, — сказала Сашенька и приняла его протянутую руку. И повела его по палате.
Тихон Николаевич с необыкновенным проворством поднялся на стул и, стуча шпингалетами, растворял рамы. В палату хлынул выстоявший, чистый воздух. Бражно ударило в ноздри захолодавшей хвоей.