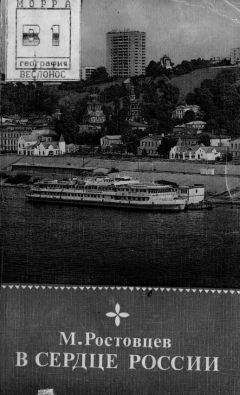Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
Он помнит каждую рыбешку, выловленную в то утро, каждую поклевку, помнит кувшинки на воде, вышедший в стрелку камыш, тихий перешепот осоки, крик куличка за спиной и крик перепела в овсах.
Сергею ясно запомнилось это утро, такое мирное, тихое — первое утро войны. Он запомнил все, даже чуть с хрипотцой, необычный для радио голос Молотова, а смысл слов понял только спустя многие и многие годы…
…И снова Сергей лежит с открытыми глазами. Он представляет себе, что нет на лице тяжелых, всегда чуть-чуть влажных повязок. Он просто проснулся черной, без единого светлячка, ночью и, свободно помаргивая, смотрит свободными глазами во мрак. Мрак сейчас рассеется, и привыкшие к темноте глаза начнут разбирать предметы.
По-прежнему тихо в палате и рядом нет никого. За время болезни он научился чувствовать, каким-то странным чутьем определять присутствие в палате человека, если он даже, как Саша, затаивает дыхание и старается ни одним движением не причинить беспокойства.
Сергей снова видит давнее.
Конец лета 1941 года Сергей запомнил очень хорошо. И не потому, что мимо их поселка все гуще шли группами военные и полувоенные люди, одетые в защитную армейскую форму, так нескладно сидящую на них, что даже мальчишки, привыкшие почитать военную одежду, прыскали беспечным смешком, завидев этих людей.
Они шли изнуренные, почти без оружия, обросшие, какие-то неприкаянные, что ли, и от этого очень грустные и задумчивые.
— Ополченцы, — говорила о них бабушка и вместе с другими женщинами выносила на дорогу воду, молоко, иногда хлеб.
С хлебом стало совсем плохо, и Сергею приходилось выстаивать длинные очереди у заводского магазина.
Запомнился конец лета, и не теми разговорами, которые слышал мальчонка в очередях, и не все чаще и чаще приходившим ощущением голода, и не теми грозными и скупыми на слово сводками Совинформбюро (он еще не осознавал всего того, что совершалось и пока еще неукротимо надвигалось на его маленькую жизнь и на жизнь всех, окружавших его с детства). Сергею запомнился конец лета необыкновенным подарком, сделанным дядей ко дню его рождения.
Дядя принес небольшой сверток и, вручив Сережке, сказал:
— Носи, солдат. Холода надвигаются. Обмужичивайся.
В свертке оказался комплект нижнего белья и не какого-нибудь детского — трусишки там или майка, а настоящего исподнего мужского.
— Ну, брат-хват, ты теперича в исподниках. Будет куда, ежли так Аники-воины драпать будут, накласть, по ширинку самую. Гля-ко, понизу завязываются исподники-то, — грустно пошутил дед. Он вообще последнее время был молчалив, задумчив и не в меру строг со всеми.
Дед недоволен отступлением Красной Армии и принимал все неуспехи на фронте как великое оскорбление русского ратного оружия.
— Куда только Сталин смотрит? — говорил дед и всегда добавлял: — Ничего, верно, по-кутузовски решил действовать: заманиват. — И тут же ругал военных: — Ах, заедай тебя комар, Аники, Аники, решили, что при тактике драпать можно во все лопатки. Погодь. Погодь, вам товарищ Сталин покажет, каким местом к врагу обертаться надо.
В общем, дед к подарку отнесся с грустной шутинкой.
Зато бабушка не могла нахвалить дядю и восторгалась преимуществом такой вот одежды супротив той, что имелась в гардеробе Сергея.
Осень обещала быть лютой, да и зима, поговаривали, ляжет рано. Бюро прогнозов тогда, видимо, не было, но предположения стариков оказались куда как верные.
Зиму Сергей помнит плохо. Потому что с холодом пришел в рабочий поселок голод. Школы прекратили занятия. Участились бомбардировки. Немец стоял всего лишь в восемнадцати километрах от поселка. Дядя Петр ушел на фронт, работала теперь на всю семью тетя Катя.
Деду с бабушкой почему-то не выдали иждивенческих карточек. И весь небольшой хлебный паек приходилось делить поровну. Как ни пытался дед доказать в разных упреждениях, что он ветеран труда и имеет полное право есть свои хлеб, карточек не давали.
По осени Сергей с бабушкой собирали желуди. Бабушка чистила их, жарила и, смолов на ручной мельнице (два чурбана, положенные друг на друга с набитыми по торцам железяками, — соорудил дед), делала из желудевой муки навары, подсыпала ее в настоящую, смолотую тоже на мельнице из зерна, которое выменял дед на все свои и бабушкины пожитки в дальней заокской деревне.
Однажды дедушка, насадив на нос очки (надевал их он очень редко и поэтому показался в очках Сергею страшно смешным), сел к столу и, положив перед собой ученический лист в косую линейку, стал писать.
Писал дед долго, старательно, высунув кончик языка в уголок оттопыренных губ. Обдумывал каждое слово. По всему было видно, что такое дело непривычно для старика.
— Деда, чего пишешь? — спросил Сережка, подсунувшись к столу.
— Погодь, потом скажу. — И писал до самого вечера.
В сумерках уже, когда бабушка запалила светец — крохотную баночку с фитильком, — электричества в поселке не было, комбинат продолжал работу, забирая всю энергию, — дед устало разогнул спину, поманил к себе внука. И пока бабушка в соседней комнате баюкала маленького Тишку, шепотом стал читать:
— «Дорогой товарищ Сталин!
Обращается к Вам ветеран труда, мастер железнодорожного транспорта Николай Тихонович Поярков. Знаю, что забот у Вас, наш вождь, нынче немало, а ежли честно сказать, лихо много забот у Вас. И все-таки ежли найдете минутку прочитать это письмо, спасибо Вам вечное. Не за себя волнуюся. За тех, кто подрастает подле моей старости — за внуков и невестку свою, которая наш единственный кормилец, А я, старый, ем их хлеб, потому что своего мне не дают.
Пятьдесят лет проработал на чугунке. Имею три Георгия за отвагу и жизнь свою, которой не жалел для Родины. Мы с Вами встречались в Царицыне. Может быть, и запамятовали сибирского стрелка, который ходил к белякам в окопы принимать оружие от их офицеров. Живу с орденом боевого Красного Знамени, храню личный подарок Клима Ворошилова — именные часы.
Восемьдесят шесть лет мне, а хлеба чужого никогда не ел. Теперь вот объедаю двух своих внуков и невестку. Карточек мне со старухой в учреждении не дают. Поезжай, говорят, в Сибирь, где жил, а куда же я поеду, коли и младшему внучонку бабка нужна и старшой у меня на руках (сын Тихона Пояркова — металлурга, моего сына).
Молчал я до нашей победы под Москвой, а вот сейчас решился все описать. Не обессудьте, помогите, ежли есть на то возможность. Мне только до весны дотянуть, а там я вкруг дома целину подниму, картошки насажу, сам всех кормить буду.
Извиняюсь за беспокойство.
Преданный Вам и Отечеству, бывший сибирский стрелок, ветеран труда Николай Поярков».
— Ну как? — спросил дед, и Серьга, впервые осознав, что он теперь взрослый, басовито ответил, подражая отцу:
— В норме, деда! Давай на почту снесу!
— Ты мотри, никому ни гугу.
Поздним вечером, уже засыпая, Сережка, прижавшись щекой к волосатой щеке деда, прошептал:
— А что, если, деда, сам Сталин к нам приедет? А?!
— Спи, — сказал дед и вздохнул.
— Он тогда нарежет по шее дядьке Леше.
Дядька Леша был для Сергея злостный враг. Жил он недалеко, в станционном поселке, своим домом, самым большим в улочном порядке.
Дом закрывал громадный забор и густой сад. В саду, давясь лаем, бегал на цепи громадный кобель. Дядьку в первые дни войны призвали в армию, на фронт. Но уже через месяц он вернулся в поселок контуженым — ничего не слышал. И только ребята знали — прикидывается дядька. Стоило им только затабуниться на задах его усадьбы, зашушукаться, как хозяин тут как тут. Матерится, кобеля обещает спустить. И что вгорячах ни скажут ребята в его адрес — все слышит.
А со взрослыми: «А да а? Чаво?»
Когда немец стоял в восемнадцати километрах от поселка, дядя Леша, ухватив как-то против своего дома Сережку, — тот нес картошку со станции, прислали дяде Петру, — зашипел:
— Что, змееныш, коммунистик, голодовать начал? Скоро вам, начальничкам, крышка. Понаехали сюда! — И больно крутанул Сергею ухо. Сергей вырвался из цепких влажных рук, побежал прочь, а позади смеялся, брызгая слюной, дядька Леша: — Всех перевешаем на столбах. День-другой — и ша. Сволочи! И дед твой сволочь, и отец, и дядька. И все вы, лесные идолы.
Сергей не заплакал от боли, хотя ухо горело, словно бы запаленное. Ему впервые было обидно за то, что кто-то может ругать его деда, отца, дядю. Говорить страшные слова о той жизни, которой до сих пор, казалось, живет каждый в большой Советской стране.
— Сам ты сволочь, — безрассудно твердил Сергей, отсиживаясь, пока не перестанет болеть ухо, в недостроенном двухэтажном доме жилучастка.
А потом в один из беспокойных трех дней, в которые вдруг прекратились бомбежки и артиллерийская канонада, дядька Леша, собрав людишек, двинулся к продовольственным складам комбината. На складах круглосуточно дежурили инженеры и рабочие — сторожевая дружина, по три человека в дежурство.