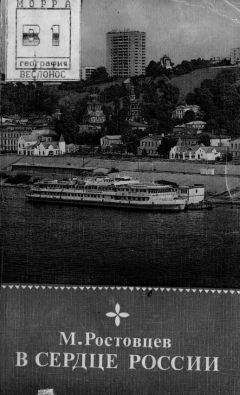Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
До войны, в тридцать девятом, дядю Петрю по окончании института направили на работу в Подмосковье. Просился Петря при распределении на родину, в Сибирь, не пустили. Отправили в Подмосковье. Петр Тихонович поехал туда не один, с женой, тоже выпускницей института стали. В сороковом родился у Петра сын Тишка. Звали молодые родителей в гости. Ни у тех, ни у других времени для свидания не нашлось. Так что в сорок первом, в мае, собрался к внуку дед Николай. Жил дед тогда вместе с сыном в Затайске. Работал на железной дороге, но к маю вышел на пенсию. Железную дорогу дед упрямо называл чугункой. И вот, прихватив внука Сережку (ему тогда восемь лет было), по этой самой чугунке двинул в Подмосковье. Бабушка тоже поехала. Высокая, почти на голову выше деда, до самой смерти сохранившая статность, широкая в кости, она была необыкновенно тиха и покладчива. Никто никогда не слышал, чтобы повысила голос, закричала, рассердилась. Дед против нее мал и щупл, но громоглив. О жене говорил: «Гусар-баба. А душой — комара не обидит».
Бабушка беспрекословно подчинялась деду и всю жизнь относилась к нему с трепетным уважением.
— Собирайся, к Петре едем. Поживем, поможемся, — в одночасье решил дед. И она согласилась:
— И то, поедем, Коля.
Деду к тому времени перевалило уже за восемьдесят. Был он бел как лунь, чуть горбился, но ходил еще быстро и на силушку не жаловался.
Так же решительно, как собрался в дорогу, объявил Инне Гавриловне:
— Серьгу с собой беру, парнишке любознательно будет.
— Так ведь школу ему закончить надо. Первый годок учится, до каникул дождитесь.
— И так переведут в другую ступень. Отличник, — сказал дед голосом, не терпящим возражений.
— Пускай едет, — шепнул жене Тихон Николаевич. — Папашу не переспоришь. Зря только озлится.
Ехали через всю Россию в шумном, общем вагоне. От плацкарты дед отказался. Тихон Николаевич, как депутат, мог обрядить поездку комфортабельной, но не тут-то было:
— Я на чугунке общество люблю. И плацкарта мне твоя без надобности. Я ее сам заслужил, да не хочу, как кинарейка в клетке, ехать. Мне общество любо. До скорого, Тиша.
Скорого свидания не получилось. Захватила война.
Сережка вернулся к родителям только в сорок третьем по зиме. Дедушку привезли в пятьдесят первом на родину помирать. Бабушка не вернулась, умерла в голодную зиму сорок шестого.
На всю жизнь запомнился Сергею тесный, шумный вагон, густо, как огурец семечками, набитый людьми.
Ехали весело, дружно. Дед перезнакомился почти со всеми пассажирами. Таскал Сергея к знакомым машинистам, кондукторам и проводникам, в купейные вагоны, где подолгу спорил с военными в новеньких, хрустящих ремнях, с алыми кубарями и ромбиками на петличках, в синих летных пилотках и фуражках с большими лаковыми козырьками. Говорили о войне. Говорили много, жарко.
— Я сам кавалер всех трех Георгиев, — шумел дед. И показывал военным на ладони такие страшные, чужие кресты в цветных лентах.
— Ты, батя, поосторожней с этими самыми наградами. Не в чести они. Царские, — посоветовал какой-то высокий, очень строгий военный.
— Царские, — зашумел дед. — На-кося, царские. Они мне во славу русского оружия дадены, во славу русского воина. И, когда на пленение беляков с делегацией нашей хаживал, оружие у генералов принимал, их под красную свою звезду надевал. Я сибирский стрелок. У меня их сам Сталин в Царицыне видел. Руками трогал. А ты — царские. У меня к ним орден советский есть, на-ко вот, гляди, — и доставал орденскую книжку.
Орден дед хранил особо, вместе с часами — подарком Ворошилова.
Ехали весело, интересно. Где-то уже за Волгой дед отстал от поезда. Встретил давнишнего дружка и загостевался с ним в вокзальном ресторане. Через сутки догнал пассажирский каким-то только ему известным способом.
— Доставили на спецэшелоне, — сказал бабушке.
Сережка тогда очень беспокоился, не потеряется ли вовсе дед, а бабушка ничего, только рукой махнула:
— Объявится. Он на ногу спор и разворотлив. Объявится.
Бабушка вообще считала, что для деда не существует никаких преград.
В Москву приехали ранним утром. И как ни силился Сергей, не прозевать бы Москвы, все-таки проспал.
Растолкал его уже дядя Петр.
— Вставай, гимназист, Москву продрыхнул, — шумел где-то внизу между узлов, корзин и чемоданов дед.
Сергей открыл глаза, увидел в окошко длинную, сырую от дождя платформу, остроконечную башню над ней, услышал необыкновенный сладковатый, с горчинкой особый московский запах и понял, что теперь для него началась новая, совсем не похожая на прежнюю жизнь.
Дядя Петр жил в большом, новом поселке под Москвой. Поселок сплошь был застроен длинными деревянными бараками и двухэтажными стандартными домами. Дома стояли грудно, бок о бок, на дворах ни единого деревца, ни цветка, даже трава и та попятилась под завалины бараков.
Жил дядя в половине недостроенного дома на краю пристанционного частного поселка, который длиннющей улицей упирался в новую, уже каменную трех- и четырехэтажную застройку — жилучасток — так называли строительство местные. Только что пущенный в работу комбинат был обок с домом дяди. Перейдешь голый пустырь, густо заросший низкой щетиной, жесткой и всегда, даже ранней весной, блеклой травою, и упрешься в дощатый забор.
Спешили, очень спешила пустить комбинат в работу, даже кое-где забор не поставили, набили кругляков и переплели их колючей проволокой. Мимо, по самому заберу тропочка, по ней, в первый же день перезнакомившись со «станционными», так звали ребят, живущих в старом поселке, Сережка отправился купаться на реку.
Купание, рыбалка, дальний лес за железнодорожной веткой заняли все свободное время, свободное от сна. Дед гулянки внука не ограничивал. Только утром заставлял подтягиваться до десяти раз на турнике. Турник дед сделал на второй же день по приезде. Вкопал за углом дома два столба и на них поперек укрепил лом.
Каждое утро, едва Сережка открывал глаза, у кровати появлялся дед:
— Серьга, марш на турнек.
Иногда злой спросонок внук огрызался:
— Не турнек, а турник. — И про себя: «Сам ты турнек».
— Едина честь. Неважно, как его величают, важно — кости ходи разминать.
— И что ему дался этот турнек, — перешептывала бабушка, — чисто виселица какая. Срам на ней человеку болтаться.
Но болтаться Серьге приходилось каждое утро.
— Ну ты, сиська коровья, — кричал на него дед. — Собирай мускул, тянись, едрена вошь. — И, подхватывая внука под бедра, помогал ему выйти на перекладину.
Пристрастие деда к турнику оказалось неслучайным. Однажды до свету поднялся Сергеи на рыбалку. Пока собрал в чуланчике удилища и весь рыбацкий припас, обвиднелось. Поднялся, прошаркал торопливым скоком на улицу проснувшийся дед. Сережка выждал необходимое по его расчетам время на то, чтобы дед пересек расстояние от крыльца до уборной, и осторожно просунулся в дверь.
То, что он увидел, ошарашило, как холодной водой из ушата. Дед, худенький, мосластый, седой, клинышком борода, с редкими, как таежный мох, волосами, в низко опавших на крестцы кальсонах, отчего живот у деда казался выпавшим вперед, дед, его древний дед, мотался на турнике. Раскинув пошире словно бы из веревок витые руки, тянулся бороденкой к перекладине, проходил ее, с трудом вытянувшись по ключицу, а потом, каким-то странным образом перехватив под мышку перекладину, вылезал по пояс и стремительно падал вниз лицом, делая полный переверт.
Каждый раз, завершив малую часть упражнения, дед воровато оглядывался по сторонам.
У Сергея хватило ума ли, детского ли такта податься назад за дверь и там кашлянуть и звякнуть ведерком.
Когда внук снова вышел на крыльцо, дед, покашливая, направлялся к уборной, упрятав раскрасневшееся лицо за пятерню, которой оглаживал бороду. Пальцы у деда все еще были налиты алой силой напряжения и чуть дрожали.
В это утро он не заметил внука, и Сережка, шмыгнув за угол, стрелой пересек пустырь.
Уже у реки, спускаясь по косогору в белый, рыхлый приречный туман, Серега подивился тому, что где-то громко говорит радио. Время не больше как пятый. Но скоро забыл об этом.
Вода лежала в берегах спокойная и мягкая. Поплавки шлепнулись один подле другого ровненько, дрогнули, поставленные грузилами в дыбки, и замерли. Замер и Сережка, словно бы вошедший в этот покой, в этот мир, тишь и красоту маленькой недостающей деталью.
Краешек тучи, скорее густого облака, которое невесть откуда поднялось над лесом, озолотел, выявив первый, еще не пришедший на землю солнечный луч. Начался клев.
Он помнит каждую рыбешку, выловленную в то утро, каждую поклевку, помнит кувшинки на воде, вышедший в стрелку камыш, тихий перешепот осоки, крик куличка за спиной и крик перепела в овсах.