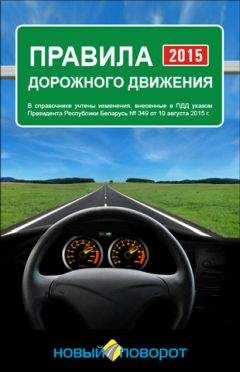Елена Подкатик - Точка
Я вспоминаю это сейчас и глупо улыбаюсь. Как хорошо было бы, если бы этот «кто-то ужасный» задушил нас в первую же ночь.
Сейчас я ослабела так, что почти не могу двигаться. С тех пор, как мы сюда приехали, нас никогда больше не выводили на прогулки. Сквозь маленькое окошко днём видно несколько лучиков солнца, ночью чуть-чуть просеивается лунный свет.
Мне всё время очень плохо, медсестра утром и вечером ставит уколы, после которых болит живот и голова. Иногда кажется, что на голову надевают горшок с горящими углями. Волосы выпадают. Хочется спать. Лежу одна в страшной белой комнате и жду, когда полечу на небо к маме.
Несколько дней назад в комнату принесли новую девочку. Ходить она не может. Разговаривать тоже. Лицо жёлтое, как восковая бумага, в которую доктор Шульц заворачивает свои инструменты.
Сегодня вечером девочка впервые открыла глаза и повернула голову в мою сторону. Мне тоже стало интересно. И я тоже посмотрела на неё. Она улыбнулась. И я улыбнулась.
Я спросила, как её зовут. Девочка тонким хриплым голосом ответила, что её зовут Стелла, а фамилию она не помнит. Она очень мало говорила. Потом сказала, что на немецком языке говорит плохо, её мама научила, а потом маму убили. И заплакала.
Я сползла с кровати. Голова кружилась, в глазах бегали огненные шарики, но мне обязательно нужно было пожалеть девочку, у которой убили маму. На четвереньках я доползла до её кровати, стала на колени и рукой вытирала слёзы девочки, которая знала свою маму.
И чем больше утешала Стеллу, тем больше появлялось у меня сил. Почему я не знала раньше, что если кого-то любить, обнимать, гладить по голове, то это придаёт сил и помогает победить боль?
В этот вечер ко мне пришли любовь и нежность, забота и надежда. Я не знала, как называются эти слова. Я их чувствовала. Гладила тонкую восковую руку больной девочки и мечтала о том, как мы с ней однажды выйдем на улицу и встретим много хороших людей. И всё это будет, обязательно будет! Нас угостят конфетами. Мы будем очень послушными, нас кто-нибудь полюбит и возьмёт в свою семью. И мы станем их детьми.
Мечтала и сама не заметила, как уснула. Обессилевшая, я спала на полу возле кровати Стеллы. А под утро в комнату кто-то вошёл. Проснувшись, я подумала, что это доктор Шульц, и спряталась под кровать.
– У нас три минуты. Ты узнаешь её?
– Да, узнаю из тысячи. Она здорова, её не успели подключить к экспериментам. Просто очень сильно истощена. Это наш последний шанс, Ганс. Другого не будет.
– Ингрид, мы совершаем преступление!
– Плевать! Я не могу иметь детей! А эта девочка не имеет семьи. Всех расстреляли. Она забудет всё. И мы забудем. Завтра тебя отправляют в Германию. Мы уедем вместе. Спрячем её в вещах.
– Ингрид, ты сумасшедшая! Нас расстреляют!
– Ты работник дипмиссии, всё обойдётся. Это наш последний шанс. Я увидела её и поняла, что именно эта девочка станет нашей дочерью.
– Что ж, от судьбы не уйдёшь. Будь что будет.
Я слышала, как Стеллу завернули в одеяло и вынесли из комнаты.
Так больно, как в эту минуту, мне ещё никогда не было. Я лишилась человека, которого смогла полюбить. Впервые я почувствовала любовь. И почти сразу же её у меня отобрали.
За окном светлело. Значит, скоро утро.
Я собрала все свои силы, влезла на подоконник, попыталась открыть окно.
Вдруг за дверью страшно закричали. Я обернулась. На белой больничной двери выросли чёрные дырки от пуль. Потом в коридоре что-то страшно взорвалось, оконная рама перекосилась, в комнату полез едкий дым. От страха я прижалась к окну и вместе с рамой вывалилась на улицу.
Кругом стреляли, по дороге метались тени солдат. Ещё один взрыв подбросил моё обессилевшее тело вверх. В голове закружились огненные фейерверки. Такие я видела в старом журнале фрейлейн Катарины.
– Здравствуй, мама! Привет, Энн!
А вот и фрейлейн Катарина, гладит меня по плечу. А рука у неё такая колючая, холодная. Пытаюсь дотянуться до её руки, чтобы согреть своим теплом, своей любовью и… просыпаюсь от страшной боли в плече.
Я лежу за забором на огромном сугробе.
Ничего не слышу. Из ушей течёт кровь. Мотая головой, ползу вперёд по тёмным закоулкам огромного и страшного города. Руки сводит от холода, ног почти не чувствую. Силы уходят. Какие яркие звёзды на этом холодном небе. Когда же за мной придёт мама? Ложусь на грязный снег у забора.
Фрейлейн Катарина снова гладит по плечу. Как же это приятно, как хорошо…
Вот и всё.
Я поднимаю голову и вдруг… вижу женщину с обложки журнала! Ту самую женщину, которая держала за руку девочку в розовом платье! Я запомнила каждую чёрточку её лица, каждую волосинку в её причёске! И вот – она рядом со мной и протягивает руку. Только сейчас она одета не в платье и туфли, а в порванную грязную куртку и чёрные сапоги.
– Стелла? Милая моя, это ты? Нет, это не она. Девочка, что ты здесь делаешь? Скоро рассвет, надо уходить. Можно замёрзнуть. Не волнуйся, я возьму тебя с собой, – женщина что-то говорит на своём языке, потом заворачивает меня в свою оборванную куртку и несёт куда-то вверх.
Фрейлейн Катарина машет нам вслед и исчезает.
Глава 9
20 октября 2009 г. Минск (продолжение)
20.00 по местному времени
Она сидела в кресле и, подперев голову хрупкими руками-ветвями, внимательно наблюдала за тем, как я судорожно стягиваю запутавшийся рукав пальто, развязываю шарф.
– Мирра Львовна, дорогая, простите за опоздание! Вот, познакомьтесь! Это моя мама – Ольга Фёдоровна. Помните, я говорила, что познакомлю вас? – слова сыпались из меня, как из дырявого мешка, не давая женщинам опомниться. – А это моя любимая бабулечка – Мирра Львовна Андреева. Вот и познакомились! Вы тут разговаривайте пока, а я на кухню побегу. Чайник поставлю.
Думаю, что мама в этот день впервые увидела свою дочь в «растрёпанных» чувствах. Час назад мы встретились с ней возле гастронома на Немиге, купили торт, чай, что-то из продуктов к ужину и направились сюда. И всё это время я говорила. С продавцами, с покупателями, с прохожими – обо всём и ни о чём. Думаю, что такой бестолково активной мама меня никогда не наблюдала. Но ведь мне никто никогда не делал предложение руки и сердца. Да ещё так оригинально.
– Вот какой мы торт принесли! Сейчас чай поставим! Вы сидите. Я сама. Мама, представляешь, я умею разжигать керосинку! Это чудо какое-то!
Мама с хозяйкой квартиры остались в комнате. Я побежала в кухню, налила керосин в лампу, поднесла спичку. Пламя, несмотря на мои трясущиеся пальцы, занялось ровное, спокойное. Так, чайник с водой наверх.
Ждём.
Я присела на скрипучую табуретку, прислонилась к прохладной шершавой стене и понемногу стала успокаиваться.
Что ж, будем анализировать ситуацию.
На неожиданном свидании я злилась, нервничала, возмущалась. Докатилась, нечего сказать! Нет, тут, конечно, радоваться надо было: предложение сделали. Руки и сердца! Замуж позвали! Между делом. Ох, не так мне представлялась такая минута. Не так. Странный повод для встречи, обман, слова пустые и улыбка. Улыбка наглого Чеширского кота. Всё. Хватит жалеть себя. Это прошлое, пусть и недавнее, нужно забыть. Мила, думай о том, что происходит сейчас.
Я сосредоточилась на своих ощущениях. Сыро. Холодно. Барабанит в стёкла надоевший дождь. Деловито шумит чайник, временами ворча на старую керосинку. Смахнув набежавшие слёзы, я разложила по тарелкам торт и прислушалась.
Женщины в комнате нашли общую тему для беседы. Моя мама родилась за четыре года до начала войны. Она не любила говорить о своём детстве. Слишком больно. Слишком страшно. Но в этом доме было привычно говорить и думать о событиях более чем полувековой давности. Знакомая история, знакомые слова, знакомые мысли. Однако сейчас, сидя на рассохшейся табуретке в тесной кухне старого дома, я слушала её как в первый раз. И впервые плакала. От жалости к самой себе. И ещё оттого, что впервые сказанное мамой открывалось в своём истинном смысле, где война – это война, слёзы – это слёзы, боль – это боль, смерть – это смерть.
– Родилась я где-то под Брянском, точнее никто не знает. В свидетельстве о рождении написано: город Брянск. Год рождения тоже примерный – 1938. Отца не помню – погиб в первые дни войны. А маму убили в августе сорок первого. Попала под бомбёжку. Помню, трава росла возле землянки, где мы жили, высокая, тяжёлая. В тот день дождь прошёл. Мама велела сидеть тихо, а сама пошла за водой к реке. И не успела добежать обратно. Воздух внезапно загудел, наполнился взрывами. Я залезла в угол между брёвнами. Помню, как сыпался песок на волосы, стекал по глазам, мешался со слезами и грязными каплями падал на серую ткань детского пальтишка. Когда всё стихло, я вылезла из укрытия, долго сидела на земляном полу и ждала маму. К вечеру захотела есть. Вышла наверх. Смотрю, лежит моя мама на тропинке. Дождём умытая. Только волосы красного цвета. Рядом ведро стоит. А в нём дырка от осколка снаряда. И вода на дне. Я напилась и стала маму будить. Думала, спит. А она не просыпается. Я плачу, дождь идёт, тяжёлая трава нависла над головой. Капают слёзы, перемешиваются с дождём. Потом поняла, что мама никогда не проснётся. Поверите, одна мысль вертелась в голове: «Надо же, маму убило, а ведро только ранило». Много лет прошло, а помню то ведро. Позже, когда в детском доме росла, оно мне в кошмарах снилось.