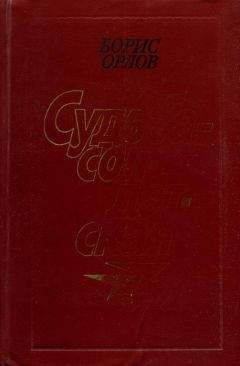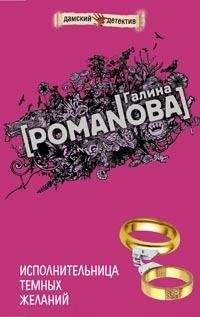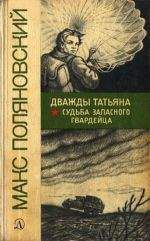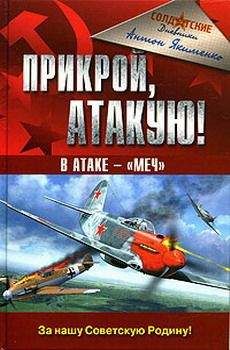Лев Якименко - Судьба Алексея Ялового
У титки Мокрины — их соседки — ничего нет, так она вдова. Муж давно от тифа помер. Четверо детей. Младший, Мишка, от зимней тягучей тоски — на печь загонят, и сиди целыми днями в хате с подслеповатыми замороженными окошками — сорвется и тайком от матери, босиком, в длинной рубахе, штанов не было — малый еще, подрасти, — через снежные сугробы к Алешке в гости. И хоть бы что. Ни простуды, ни кашля.
— У меня подошвы как железные. Мне снег нипочем. Я и по льду могу, — хвастал Мишка и показывал свои задубевшие, в глубоких трещинах ноги. А чего ему не закалиться — с рождения босиком. Пары обуви не сносил.
Алеша рискнул было тем же способом проведать своего друга. Сапоги отдали в починку, дня два томился один в хате, чего только не делал: и рисовал, и варенье тайком изо всех банок перепробовал, кота до смерти загонял, вместе ведро с водой опрокинули, злодейство крупное, потому что за водой надо были идти за кладбище — там колодец со сладкой водой был; мокрую солому собрал, — пол земляной, вот и стелили солому, чтобы теплее, — в угол под печь, вроде припасено на топку, чтобы подсыхала, но знал: бабушку не проведешь, на кота не свалишь, — накинул пальто и босиком из хаты. Жигануло так, что ноги сами собой подпрыгнули, понял, почему воробей на одном месте не стоит, все прыг да скок. Снег оказался в стылых зазубринах, льдисто-колючим. Только на улицу — бабушка с криком: «Ой, матинко!» — наперехват. Малиновым чаем поила, ноги в горячей воде с горчицей парила, каким-то скипидаром растирала. И все ни к чему, потому что он не думал болеть. Даже не чихнул ни разу. Мама и татусь и знать ничего не знали.
Алеша долго исследовал свои ноги. Может, и у него они, как у Мишки, ничего не боятся. Все им трын-трава.
Мишка вон чего обещал: по огню пройти; мол, выгребем жар из печи — и он на нем затанцует. Алеша опасливо заглядывал в широкое устье печи, там гудел, рвался вверх красный с синеватым отливом огонь; прикидывал, может, и самому, как прогорит, кочергой достать жар, на печную заслонку его, чтобы солома на полу не загорелась, и попробовать потанцевать на огне.
Идешь себе по красным углям, и ничего, только синий дымок под ногами схватывается, и ты идешь себе, как святой, в белых одеждах и руки вверх для благословения, как на бабушкиных иконах. Предварительно, для проверки, зажег лучину — и под пятку, терпел, пока паленым не понесло, а потом здоровенный пузырь вскочил…
Да и Мишка еще неизвестно как, если жар не после соломы из печи, а из кузницы, пусть на тех углях попробует потанцевать, железо и то как раскаляют, оно прямо пылает, светится.
Любимое было занятие торчать возле кузницы. Из широко распахнутой двери тянет прогорклым дымком, в темной глубине — шумное дыхание мехов, красноватый гудящий огонек, и вот выхваченное из горна железо в белом светящемся накале и удары молота: г-ах! г-ах! Во все стороны — яркие брызги окалины…
Сплющивается, гнется железо, меняет под ударами цвет, багровеет, переходит в сизовато-красный — и вот в бочку с водой его, закипит, взовьется пар, бряк на песок — и готово: лежит смирная темноватая коса, или серп, или подкова.
Эти рождающиеся на глазах формы, эта податливость железа — всякий раз новое чудо преображения — завораживали Алешу. Посинеет весь от холода, а от двери не отходит, заглядывает в кузницу.
Кузнец дядько Парфентий мог и цепь выковать, и засов, и удила, и бляхи для уздечки. И перевернутые плуги возле его кузницы лежали, и жатки на кривоватых колесах — ремонтировал к весне и лету.
Приметил как-то Алешу дядько Парфентий. Закопченный, белозубый, крикнул: «Эй, малько, а иди-ка сюда…» Поставил ящик, Алеша дотянулся до ручки мехов, всем телом повис, пошла ручка вниз, а дыхания настоящего нет, не разгорается уголь. Мехи как пустые: «пш-и, пш-и-и». Засмеялся дядько Парфентий, ухватил своей ручищей, мехи засопели, ровно загудело пламя, и Алеша изо всех сил старался, вместе с кузнецом раздувал огонь. Мокрый стал, ноги дрожат, а вида не подавал, пока не крикнул Парфентий: «Хватит!»
А один раз выхватил длинными щипцами из-под горящего угля железо, кивнул Алеше: держи, хватай ручки щипцов, двумя руками держи, подручным будешь, трахнул молотком, щипцы вырвались у Алеши из рук, железо на землю. Засмеялись — всегда возле кузницы народ.
— Видно, сала мало ешь, — сказал дядько Парфентий. — Ты не на пундики с медом, ты на сало та цибулю нажимай, на кашу.
Неделю Алеша перед Мишкой в героях ходил. Получалось по его рассказам, будто он чуть ли не своими руками серп отковал.
Когда ковали лошадей — для Алеши праздник.
Со смирной конягой дядько Парфентий управлялся между делом. Выйдет в своем жестяно-негнущемся, замасленном до черноты фартуке, посопит, поглядит, прикинет размер подков. А потом сразу зажмет ногу коня между колен, вспыхивающим под солнцем ножом играючи обрежет копыта, подровняет, зачистит рашпилем, прикинет подкову, ухналь изо рта, молотком раз — с одного удара проходил ухналь насквозь, оставалось только загнуть… Не успеешь оглянуться — лошадь утвердилась на подковах, поглядывает на свои ноги, перебирает ими, словно пробует.
А вот с какой-нибудь молоденькой норовистой кобылкой приходилось повозиться. Дрожит всем телом, на огонь в кузнице косится, всхрапывает, чуть что — на дыбы. На этот случай был специальный станок, привязывали коротко, с двух сторон зажимали жердями, и тут, если дядько Парфентий ногу захватил, зажал, — все — как в железных тисках. Любую лошадь подкует.
— Моя хвирма, — объяснял Парфентий какому-нибудь недоверчивому дядьке из дальних хуторов, если начинал тот по привычке спорить с кузнецом из-за цены. — Первое: без запроса, уяснил? Второе — без магарыча, третье — если что не так, неси назад, переделаю и в придачу гроши верну… Уяснил? А нет — геть! Не мешай! Шукай соби другого!
По праздникам, чаще всего в воскресные дни, прогуливался дядько Парфентий на базар. Вырядится в тройку, костюм так назывался с жилетом, как у цыгана, белая сорочка, «при галстуке», на голове какая-то странная шляпа с короткими полями, помахивает себе тросточкой, не здешний, странный, чужой. Но ботинок не носил, а сапоги, и не хромовые, а обыкновенные мужицкие, смазанные дегтем сапоги. За ним — чинно, молчаливо-высокая сумрачная жена его — красавица, похожая на цыганку. Особенно когда набросит на себя отливающую вороньим блеском шаль с кистями, в пылающих красных цветах. Корзина на руке, идет легко.
Моду эту, говорили, вывез дядько Парфентий из-за границы. В плену два года прожил в Австрии, вроде даже женился там на вдове-солдатке, на хорошее хозяйство сел. Но потянуло на родину, бросил все, вернулся в свое село, в свою маленькую хату, к своей смуглолицей, всегда почему-то печальной и молчаливой жене, посадил перед окнами подсолнухи, открыл низенькую кузницу… И в будние дни стал как все.
Коня своего тоже не было у дядька Парфентия, вот и ходил с женой на базар пешком. Версты четыре, не меньше, надо было отшагать.
— Дядько Парфентий тоже не хозяин? — выяснял Алеша у бабушки, которая с привычными уже стонущими интонациями жаловалась на неустроенность, на то, что ни коня, ни коровы…
— Его золотые руки годуют. На что ему хозяйство!
— А что у татуся, рук нет? — обиделся Алеша.
— А мабуть, и нема… А может, они поотсыхали у твоего батька, — неожиданно вмешался в разговор дед Тымиш.
Он выкашивал у них в саду траву. Выгнала в пояс. Дед, хекая, заносил косу и сквозь вж-и-и-и, вж-и-и-и в полный голос поносил Алешиного отца:
— Вчилы, вчилы и вывчилы… До того грамотни стали — в саду сено косят. Он як воно по-вченому выходит…
Остановился, повернулся к бабушке и, опираясь на держак косы, люто взблескивая глазами, грозно, словно заклинание, произнес:
— Та як бы Хома встав с гроба та глянув, что во дворе робиться, вин бы вам… И тоби, Степанидо, было бы!..
Бабушка покорно покивала головой, передник к глазам:
— Не хозяин Петро, не хозяин…
Это она о татусе.
Разговоры о хозяйстве возникали неожиданно и почти всегда заканчивались ссорой.
— Зачем нам хозяйство? Есть где жить, и хорошо. Мы — учителя. У нас школа, дети, общественные обязанности… — («Перед парубками представляться, задом крутить», — вставляла бабушка. Слышать не могла, что мама в спектаклях участвовала, на сцене выступала.)
Мама — как будто это и не про нее:
— Утром уходим, ночью приходим… — («По клубам бы меньше бигала, диты вон когда из школы до дому, а вона — опивночи», — вновь ядовито комментировала бабушка.) — На хозяйство ни сил, ни времени не остается. Не нужно оно нам, — твердила мама.
— А пальто с меховым воротником тоби нужно… А шляпу тоби из города. А сапожки тоби с шнурками… — срывалась бабушка.
— Я на себя сама зарабатываю, — устало говорила мама. — И другие учителя на зарплату живут.