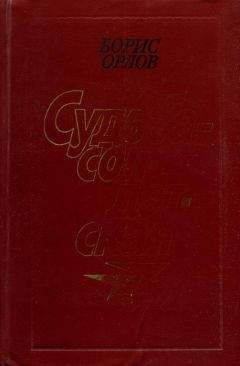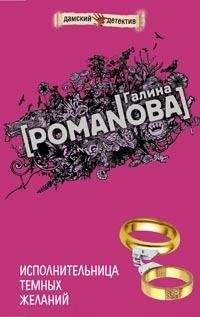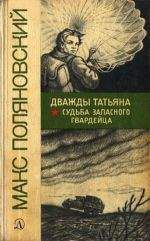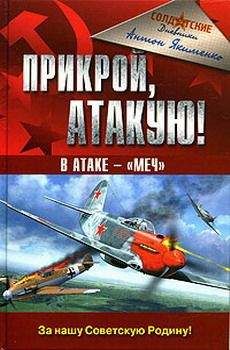Лев Якименко - Судьба Алексея Ялового
Хоть бы недавно: на хуторах умерла одна женщина. Обмыли ее, одели во все смертное, на кладбище принесли. Дьяк с кадилом, певчих пригласили, батюшка отслужил — все как положено. Но только крышку на гроб, а покойница взяла да и встала. В гробу. Днем. При всем народе. Как привидение. Одна женщина — бах в обморок. Другая в крик: «Конец свита!» «С нами крестная сила!» — сыпанули во все стороны. Дьяк с великого страху в могилу съехал, с того времени голоса лишился, а голос был знаменитый — в театр приглашали, второй месяц глотает сырые яйца, не помогает. Мужички, из тех, которые помянули еще перед выносом, начали покойницу обратно в гроб заталкивать. Раз померла, лежи. Она из рук рвется, кричит, как живая. А потом по-матерному как шуганет, мужики и отступились, поверили, что живая. Встала из гроба и пошла домой: только лаяла всех подряд. Своего чоловика, что рад жену в гроб вогнать, соседей, что сбежались на похороны — им бы только погулять, знаем мы этот «спомин души», — кощунствовала она и буйствовала. Досталось и священнику: старый «ледарь» сослепу «живу людыну» чуть на тот свет не спровадил — великий грех на душу брал!
Третья хата ее, справа — как в город ехать. И по хозяйству теперь и за детьми. Будто и не побывала на том свете.
Вот и не верь, когда говорят: встают мертвецы из могил. А к бабушке разве не приходил дедушка с кладбища. В окно как застучит ночью, дождь, ветер, и его голос явственно: «Степанидо, выйди! Степанидо…» Бабушка упала на колени перед иконами, лампада горит, а она одно: «Господи, спаси и помилуй!» Что-то такое с похоронами не так сделали, не соблюли порядок, вот душа его и являлась.
— Выдумки все это, — сердилась мама. — Бабушка была взволнована, потрясена, вот ей и показалось, что ее кто-то зовет…
Может, оно и так, только и бабушка при своем уме, уверяет, истинно все было, несколько раз являлся. Врать-то ей незачем. Может, и есть бесприютные души, встают из гробов. Или с того света являются.
Днем не страшно через кладбище. Идешь, и никакого внимания. А ночью, особенно осенью, когда темнеет рано, дорожка только сереет, а кругом — тьма, ветер как пройдет по кустам, они шевелятся, будто кто возле них вздыхает, шепчет что-то. То крест как-то странно поведет себя: вдруг вроде в сторону подастся, того и гляди, встанет за ним кто в белом… То затемнеет что-то зловеще впереди, двинется.
Идет Алеша, замирает, только вперед смотрит, не знает, пришло время камни хватать или крестное знамение сотворить, как бабушка учила. От нечистой силы обороняться.
Не любил он кладбище ночью. А другой дороги не было. Тут самая прямая и близкая. Ходил. Мама убедила: «Ты — храбрый мальчик. Ты уже понимаешь: человек умер, и его нет. Одни кости остаются. Как ты думаешь, кости вставать могут?» Всякому понятно: нет.
Он и хлопцев в этом уверял: ничего не боится. А про себя знал: опасался. Но так как через кладбище один ходил, значит, действительно не боялся. Значит, храбрый.
Кладбище кладбищем, а шапку Алеша все же сдвинул, ухо приоткрыл, наставил его под ветер: о чем таком важном хотел дядько Микола Бессараб поговорить с татусем втайне.
Беспокойный, видно, шел разговор, трудный, невеселый. Микола Бессараб ни на шаг от татуся, то с одной стороны, то с другой что-то доказывает. Правда, спокойно. Без крика. Настырный дядько: говорит, будто командует.
Никак Алеша не уловит, про что разговор. Тихо говорят. Татусь пятый окурок в снег метнул. «Пушка» назывались папиросы. Были еще «Наша марка», в картонной красивой коробке, татусь их брал, когда в гости собирались.
Замолчал татусь. Бессараб к нему и так и сяк. А он молчит. Словно и языком пошевелить не может: как будто не он про Зеленый клин, про этот далекий край вот только что складно выпевал.
А может, замерз. Как-никак не лето. Алеша и то на месте уже начал сапогом о сапог постукивать, подпрыгивать. Так у него пальто какое: на вате, с воротником, — никакой мороз с ветром не страшен, а у татуся старенькое, осеннее называется, на рукавах все вытерлось, бабушка плачется: нет чтобы себе, так все ее ублажает да детям, а о себе и байдуже.
— Ничего, сынок, перебегаю, — бодренько объяснял татусь, — корову же с тобой прошлым летом ездили торговать — знаешь, сколько денег ушло, бабушка про то, видно, забыла. Перебегаю эту зиму, а там денег соберем, я себе такую шубу справлю!..
Бегать, может, и ничего, а когда вот так на одном месте… Да на ветру с морозцем. Губы вон у татуся прямо задубели, не шевельнет ими, уголки вниз сползли — пристыли, даже шапка — высокая смушковая шапка — потеряла свой бравый казацкий вид, сдвинулась набок.
Не узнает своего отца Алеша. Какой-то растерянный… Как будто тяжкую ношу взвалил на него Микола Бессараб, и он — ни с места.
И жалость, пронзительная сыновья жалость опаляет Алешку. Чего он слушает этого Бессараба. Сказал бы: «Отойди» — и домой. Алеша волчком на Бессараба — и к татусю:
— Пойдем домой… Будто не услышали.
— Не-е, Хомич, про то не кажить. Вы хоть и учитель, а хозяйство на вас… А маты… вона вас послушает. Вы ж нам давно про то говорили, объединяться, мол, гуртом и пана добре бить… Подошло время… Вам самому и надо пример показать.
Лицо у Миколы Бессараба в желваках, не поймешь, посмеивается или сердится, глаз от татуся не отводит, голос въедливый.
— Домой пора! — вновь решительно вклинивается Алеша.
И тут впервые татусь взглянул на Алешку. Как будто просыпаться начал. Узнавать. С трудом начал размораживать глаза.
— Сейчас идем, сынок, — сказал. Положил руку на плечо сына, словно тот ему опора.
— Сколько же нас наберется? — спросил у Бессараба, как о решенном.
Бессараб так и понял.
— С вами девятнадцать хозяйств. За нами потянутся. Побачите. Агитнем, нажмем. Главное — основатели есть, як это у вас по-ученому: и-ни-циа-то-ры, — выговорил по слогам. Прижмурил глаз, подмигнул Алеше. На том и разошлись.
— Коллективизация начинается, — ответил отец на вопрос сына.
— Чего? — Алеша даже остановился. Слово непонятное — впервые слышал.
— Все вместе будем хозяйничать. Это хорошее дело, сынок. Легче жить станет. — И словно сам с собой: — Не рановато ли?.. Машин мало. С тракторов бы начать.
— А трактор что такое?
— Машина такая. И пахать на ней, и молотить. Один трактор двадцать лошадей может заменить.
И вновь засомневался татусь, загоревал почти в открытую:
— Поймут ли люди? Каждый в свое вцепился, как собака в кость. Землю надо объединить, хозяйства вместе свести… Лошадей отдать…
Алешка первый не понял.
— Хлопчика отдать? — потрясенно выкрикнул он. До него только сейчас дошло, что это и их касается. С них начинаться будет.
— И Хлопчика… — потухшим голосом подтвердил татусь. — Не нам одним… Знаешь, сколько коней будет, когда все сведут. Полная конюшня.
Алешка вцепился отцу в рукав.
— Хлопчика я никому не отдам, — отрубил.
Он мог так — упрется, не сдвинешь. Бей, казни — на своем будет стоять.
Татусь промолчал.
Надолго забыл Алеша про Зеленый клин — крестьянский рай.
ХЛОПЧИК
У всех были кони, у них долго не было. Ни коня, ни коровы, даже кабана не выкармливали. Одни куры-пеструшки копошились во дворе. Неслись плохо. Бабушка обвиняла петуха: какой-то сопливенький, заморенный, синеватый гребень вечно набок; раскрылатится, как курица, мчит, летит, спасается в своем дворе от более удачливых и драчливых соседей. Нет того, чтобы самому налететь, сдачи дать. Зараза, а не петух. Это бабушка о нем.
Собака Димка еще была. Появилась она на Алешкиной памяти. И сразу шесть штук принесла. Лопоухих, мохнатеньких щенят. Алеша топить не дал, подросли — за Димкой стайкой бегали, такую карусель дети с ними устраивали, визг, крик на всю улицу.
У Алеши с Димкой дружба. Куда он — туда и она. Дымчато-серая, с белыми подпалинами. Все кости — ей, хлеб — тайком от бабушки, иной раз и пирога отведывала Димка.
Вот и все хозяйство. А какое же крестьянское хозяйство без лошади?! Коня нет, — значит, не хозяин.
По-уличному их называли Карандаши. Вроде еще бабушку деда прозвали так в давние времена. Каким-то чудом освоила грамоту. Будто просфоры пекла для церкви. Старик священник приметил любознательную молодку и, хотя для женщины по тем временам ни к чему была грамота, смилостивился, показал буквы. Уцепилась молодка в книжку, Псалтырь научилась читать, «по-печатному» могла расписаться. Детей начала учить. Такое становилось легендой. Татусь за обидное прозвище не считал. «Без карандаша грамотному как без рук. И письмо написать, и нарисовать… Карандаш — это наука, свет».
Свет светом, а во дворе у них все лебедой заросло. В сарае — пусто, в конюшне одни куры зимуют.
У титки Мокрины — их соседки — ничего нет, так она вдова. Муж давно от тифа помер. Четверо детей. Младший, Мишка, от зимней тягучей тоски — на печь загонят, и сиди целыми днями в хате с подслеповатыми замороженными окошками — сорвется и тайком от матери, босиком, в длинной рубахе, штанов не было — малый еще, подрасти, — через снежные сугробы к Алешке в гости. И хоть бы что. Ни простуды, ни кашля.