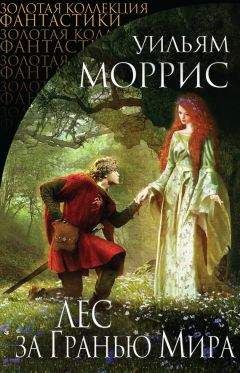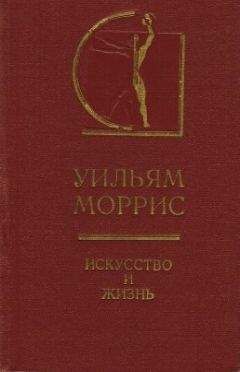Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия - Моррис Уильям
Вот что замышляли лорды, и я знал, что об этом говорили не только они сами, но их управляющие и даже их слуги. Народ, однако, не хотел допустить это. Вот почему, как я уже сказал, в Эссексе собирались поднять мятеж. Был слух, что в Сент-Олбансе уже чуть ли не начались схватки с солдатами лорда Аббота, что на севере, в Норвиче, Джон Литстер смывал краску с рук, собираясь снова выкрасить их, но уже не зерном и не мареной. Говорили также, что смелый дартфордский черепичный мастер убил топором чиновника за бесстыдное обращение с его дочерью. Передавали еще, что и в Кенте поднимается народ.
Зная все это, я не удивился волнению и крикам при моем упоминании о товарищах из Эссекса. Я удивился скорее тому, что ничего больше не было сказано по этому поводу. Один только Уилл Грин спокойно проговорил:
– Новости свои он передаст потом, когда нас соберется больше. Теперь же, брат, возьми мяса, поешь и начинай поскорее свой сказ.
При этих словах девушка в синем оставила свое место у камина и принесла мне чистое блюдо – это была четырехугольная тонкая дубовая доска, начисто выскобленная, и оловянную кружку с медом. Я совершенно непринужденно, точно привык к этому, вынул нож из-за пояса и отрезал себе мяса и хлеба. Но Уилл Грин засмеялся, когда я стал резать, и сказал:
– Видно, брат, что ты не резал мяса за столом на службе у какого-нибудь лорда. Да и по речи твоей видать, что ты скорее мог бы быть придворным чтецом. А скажи, бывал ты в Оксфорде, ученый человек?
Это слово вызвало в моей памяти дома с серыми крышами, длинную извивающуюся улицу, звон множества колоколов. Я утвердительно кивнул головой, отвечая «да» ртом, полным соленой свинины и ржаного хлеба. Затем я поднял, кружку, мы громко чокнулись, и поднес кружку к губам. Огонь доброго старого меда разлился по моим жилам и еще глубже погрузил меня в сон о былом, настоящем и грядущем. Я сказал:
– Так слушайте же меня, если на то пошло! Минувшей осенью я был в Суффолке, в славном городе Данвиче, и туда прибыли суда из Исландии. На них было несколько исландцев, знавших много песен и сказаний. Я много и часто их слушал, потому что я собиратель сказаний и песен; и то, что я теперь расскажу вам, я тоже узнал от них.
Я передал им сказание, которое давно знал. Но по мере того как я говорил, в слова мои точно вливалась новая жизнь, звуки росли, и я сам не узнавал своего голоса. Я стал говорить рифмованной речью, и, когда я кончил, наступило на минуту молчание. Потом заговорил только один из присутствовавших, и то негромко:
– Да, в той стране лето было короткое, а зима длинная: но люди жили и летом, и зимой. И когда деревья чахли и рожь уже не колосилась, то растение, которому название «человек», все же росло и цвело на славу. Дай Бог, чтобы и у нас народились такие люди!
– Такие люди у нас были, – сказал другой, – и еще будут; и теперь, быть может, есть они, и даже неподалеку от наших дверей.
– Послушайте, – сказал третий, – песню про Робин Гуда. Может быть, она ускорит появление того, о ком я теперь думаю.
И он запел чистым молодым голосом прелестную дикую песню, одну из тех баллад, какие вы, быть может, читали в неполном и искаженном виде. Сердце мое громко забилось, когда я слушал его, так как в песне говорилось о борьбе против тиранов за свободную жизнь, о том, что дикий лес и пустырь, несмотря ни на какую погоду, милее человеку со свободной душой, чем жизнь при дворе или в городах, где живут торгаши. Он пел о том, что нужно отнимать у богатых, чтобы давать бедным, о людях, живущих по собственной воле, а не по воле другого человека, который командует только из властолюбия. Все жадно слушали певца, иногда подхватывали припев, кончавший строфу, своими сильными и грубоватыми, но все же музыкальными голосами. Когда они пели, в воображении моем возникала картина дикого леса, действительного леса, а не парка с расчищенными аллеями и лугами. Я видел перед собой дикую спутанную чащу, степи и поляны, поросшие вереском, – торжественно тихие при лучах утреннего солнца и угрюмые, когда поднимается вечером ветер или наступают длинные дождливые ночи.
Когда он кончил, другой начал петь приблизительно тем же напевом.
Но то, что он пел, было скорее песнью, чем балладой, и вот что я помню из его песни:
На этом песня вдруг оборвалась, и один из присутствовавших поднял руку, как бы говоря: тсс… слушайте! Через открытое окно доносилась до нас другая песня, постепенно нараставшая так, точно ее пел на ходу приближавшийся хор. Это было церковное пение, сразу напомнившее мне высокие своды французских соборов и поющих хором каноников.
Все повскакали с мест и поспешили снять каждый свой лук со стены; у некоторых были и щиты – круги из кожи, вываренной и потом затвердевшей в приданной ей форме: щиты имели две ладони в поперечнике и усажены были посередине железными или медными шишками. Уилл Грин подошел к углу, где стояли прислоненные к стене серпы, и стал раздавать их всем подходившим; затем мы все спокойно и серьезно вышли на деревенскую улицу, озаренную мягким солнечным светом. День уже начинал клониться к вечеру. Никто из нас не произнес ни слова с той минуты, как мы услышали приближавшееся пение. Только при выходе из таверны спевший балладу молодой человек хлопнул меня по плечу и сказал:
– Ну что, верно я говорил, брат? Вот видишь, Робин Гуд привел нам Джона Болла.
Глава III
Собрание у креста
Когда мы вышли на улицу, она была уже полна народом; все стояли, повернувшись лицом к кресту. Приближавшаяся песня звучала все громче, и мы вскоре увидели на повороте дороги идущую через сады и огороды довольно большую группу людей, на вид лучше вооруженную, чем окружавшие меня поселяне. Лучи уже низко стоявшего солнца играли на множестве железных и стальных остриев. Теперь можно было уже разобрать слова песни, и среди них я услышал те слова, с которыми Уилл Грин обратился ко мне, и мой ответ на них. Но в то время как я напрягал все внимание, чтобы расслышать и дальнейшие слова, с новой белой колокольни позади нас вдруг зазвонили колокола. Первые звуки были торопливые и резкие, но вслед за тем начался мерный, гармоничный звон. При первых же звуках вся толпа наших подняла крик, которому стали вторить и вновь прибывшие: