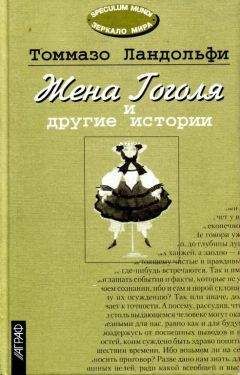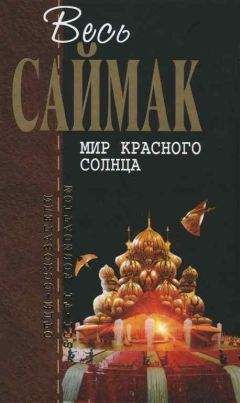Томаззо Ландольфи - Солнечный удар: Рассказы
— Тогда к чему вся эта канитель? К чему нужно было забивать нам мозги этим замысловатым разграничением?
— Я разграничил их по двоякой причине. Во-первых, потому, что, как уже было сказано, их нельзя воспринимать в качестве единого понятия, предварительно не разделив. Во-вторых, потому, что смерть, несмотря ни на что и совершенно непостижимым для меня самого образом, относится скорее ко второму виду, второму роду единой идеи, чем к первому.
— Так, снова загадки пошли. Кажется, вы опять противоречите самому себе. Вы хотите сказать, что смерть скорее представляет собой конец во времени, чем конец в пространстве?
— В общем, да.
— Но в таком случае у нас получается два понятия.
— Отнюдь.
— То есть как? Вы шутите?
— Вовсе нет. Безусловно, здесь моя хилая теория начинает буксовать, и я, честно говоря, не знаю, как быть дальше, как обосновать мои… мои впечатления. Тем не менее… А что, если мы попытаемся изменить терминологию? Например, можно предположить, что понятие пространства или времени в его отношении к идее смерти, и только в этом случае, не является в собственном смысле слова понятием, а скорее функцией. Основания для подобного заключения действительно есть: пространство и время как бы выполняют функцию друг друга.
— Функция здесь вовсе ни при чем. Ну хорошо, а что это нам дает?
— О боже, да ничего, просто тогда нам было бы легче допустить преобладание одного из двух.
— Ничего подобного! Наоборот!
— А что, если мы обратимся к понятию переменной функции?
— А вам не кажется, что вы весьма вольно обращаетесь с этими терминами? Функция, какой бы она ни была — переменной или нет, не может относиться к самой себе. Кроме того, вы буквально закидали нас всевозможными понятиями, меж тем как у вас у самого, кажется, голова кругом идет. Мы уже окончательно запутались в ненужных подробностях, которые, по вашему собственному определению, являются лишь вашими впечатлениями.
— Что правда, то правда: я и сам потерял от всего этого голову.
— Ну, а все-таки, профессор, скажете вы наконец, как нам понимать эту проклятую смерть? Это конец во времени или в пространстве? А может, и во времени, и в пространстве или же в том, что объединяет их и уподобляет одно другому? Да и конец ли это, правильно мы поняли ваши туманные объяснения?
— Это действительно конец, по крайней мере в их понимании. Конец во времени и в пространстве, и в первом, и во втором. Лучше даже будет сказать: во времени-пространстве. Да, остановимся пока здесь.
— Ну вот, теперь это хотя бы прозвучало ясно. Тем не менее остальное еще по-прежнему покрыто мраком неизвестности. Итак, конец. То есть, в сущности, идея конца. Впрочем, здесь, кажется, пахнет тавтологией: коль скоро они тела, то они и должны кончаться.
— Верно, они конечны, ограничены в пространстве, но…
— Во времени-пространстве, как мы только что признали.
— Да, но… (О небо!) Видите ли, то, что они конечны или ограничены, вовсе не означает, что они кончаются.
— Правильно, но разница в лучшем случае затрагивает наше сознание.
— Умницы. Вот где понятие, псевдопонятие или полупонятие времени может оказаться нам полезным, что бы я вам тут ни говорил. Они кончаются не только в пространстве, но и во времени, то есть в пространстве как пространстве-времени, при явном преобладании последнего… Это понятно?
— Ничуть.
— Тогда мы должны вновь обратиться к примеру взорвавшейся звезды. Я, наверное, рассуждаю сбивчиво и неуклюже, но речь идет не об их самовосприятии и не о каком-то отвлеченном для них понятии, а о реально происходящем событии. Хотя, как я уже говорил, именно мировосприятие сделало их такими, какие они есть.
— Вы никак не дойдете до сути дела. Значит, смерть есть реально происходящее событие?
— Да.
— Следовательно, теперь это больше уже не понятие и не идея?
— Да нет же, черт возьми, это идея, выведенная из реального события, и одновременно само это событие.
— Как это у вас все легко и просто! Плохо лишь одно: исходя из ваших собственных доводов, можно с таким же успехом заключить, что не идея выводится из события, а событие из идеи.
— (Ты смотри, что творят!) А что, собственно, это меняет, славные вы мои всезнайки?
— Посыплем голову пеплом: выходит, они могут взорваться, подобно небесным телам?
— Не знаю, взорваться ли, но кончиться — наверняка. Впрочем, если хотите, будем считать, что они взрываются.
— Значит, и с ними может выйти такая оказия?
— А вот и нет. Тут кроется еще одна загвоздка. У меня такое впечатление, что для них это не просто возможность, а необходимость.
— Необходимость! Вы хотите сказать, что рано или поздно они должны взорваться?
— По крайней мере, они так думают. Само собой разумеется, это может быть лишь их предположение. Правда, оно вроде бы подтверждается фактами. Во всяком случае, до сих пор все шло именно так, как они предполагали: вначале они есть, затем, в какой-то определенный момент, их уже нет; это и значит, что они умерли.
— Но ведь это абсурд: сущее, то есть в конечном счете все, не может оказаться ничем и полностью перейти в небытие.
— Зато оно может изменить состояние. Иначе как вы объясните взрыв звезды? Они перестают быть по отношению к тому, чем были раньше.
— Хм, все это сильно смахивает на софизм.
— При чем здесь софизм? Может звезда взорваться, или потухнуть, или вообще перестать быть тем, чем была, и даже превратиться во что-то еще?
— Конечно, но «может» еще не значит «должна». В этом огромная и прежде всего качественная разница.
— Не значит «должна»? Да мы-то откуда знаем? А что, если это некий естественный, всеобщий закон?
— Закон конца или изменения состояния? Да будет вам!
— А я и не настаиваю, ведь это они так считают.
— И на чем же основывается этот закон?
— На опыте. Я, как вы понимаете, рассуждаю в их ключе, точнее, опираюсь на их данные.
— На опыте! Но ведь опыт — это самый ненадежный метод исследования, самая обманчивая точка отсчета. Исходя из опыта, всегда можно прийти к двум взаимоисключающим результатам. Ссылаясь на опыт, можно утверждать все что угодно. Неужели из того, что взорвалась какая-то одна звезда, неизбежно вытекает, что и остальные звезды должны рано или поздно взорваться? Ну, а если, скажем, кто-то из нас вдруг прекратит свое существование, разве это приведет к прекращению существования всех? Что за околесицу мы здесь несем?
— Вместе с тем если бы каждую минуту перед нами взрывалась или гасла звезда, то подобные случаи, то есть сводимые к предыдущим будущие случаи, приобрели бы в наших глазах более вероятностный характер и в конце концов воспринимались бы нами почти как необходимость.
— Да что вы нам тут рассказываете? Простите, не вы ли сами учили нас не доверяться фактам и сохранять по отношению к ним присущую нам свежесть и, как вы выразились, девственность? Ладно. Дальше вы говорите о будущих случаях. Но ведь ни один случай полностью не сводится к другому, тем более предшествующему. К тому же наибольшая вероятность или почти необходимость еще не являются необходимостью, скорее они составляют ее полную противоположность. И, наконец, возьмем хотя бы первый случай. Спрашивается: как в идеале соотносится с ним второй случай? Свободно ли это соотношение, свободны ли мы в отношении второго случая? Я хочу сказать, что наше мнение могло быть определено и обусловлено уж после первого случая, в силу того представления, которое мы о нем составили. Так что вопрос о необходимости второго случая неизбежно оказался бы спорным, и мы никогда не сумели бы доказать его правомерность. И это только по поводу второго случая. Что же тогда говорить о третьем, четвертом и так далее?
— Ну, да, да, а они все же тем временем умирают.
— А что, если это происходит потому, что они убеждены в необходимости умереть? При такой убежденности, возможно, и с нами случилось бы нечто подобное. Вы только посмотрите, до чего я додумался!
— Что я вам говорил?
— Да не-ет… Не мешало бы им набраться смелости и заявить раз и навсегда: «Тем хуже для фактов», — вот что они должны сказать. Однако продолжим. Значит, так: они умирают. Или только думают, что умирают?
— А разве это не одно и то же? По крайней мере, для наших рассуждений о том понятии, которое мы пытаемся определить. Скажу больше: если бы они только верили, а на самом деле не умирали, будь то для них хуже или лучше, в конечном счете это дало бы нам преимущество a fortiori[52], если так можно выразиться. Впрочем, все это не так просто, как кажется. Вот скажите, например, допускаете ли вы существование иных естественных законов? Или иных миров, где царили бы иные, отличные от наших, законы?
— В вашем вопросе столько оговорок… не говоря уже о том, что сформулирован он довольно небрежно, так как законов, которые бы управляли нами, не существует. В данном случае мы управляем законами, после того как сами же их и устанавливаем. Законы — это наше истолкование… Но даже если предположить более правильную формулировку вашего вопроса и постараться вникнуть в его суть, ответ у нас будет один: решительное нет.