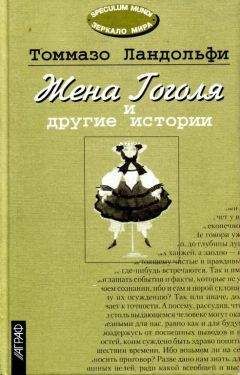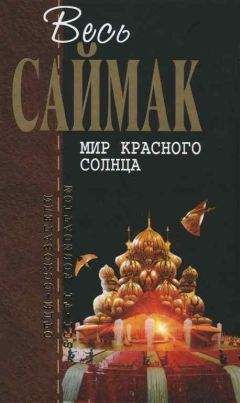Томаззо Ландольфи - Солнечный удар: Рассказы

Обзор книги Томаззо Ландольфи - Солнечный удар: Рассказы
Томмазо Ландольфи
Солнечный удар
Рассказы
Перевод с итальянского
Бытие и небытие Томмазо Ландольфи
Передавали, что Ландольфи умер таинственно, в духе своих рассказов. Он «исчез». Семидесятилетний старик «пошел прогуляться» и пропал бесследно. Всеевропейская знаменитость, прославленный писатель, лауреат десятка литературных премий — растворился в воздухе…
«Сон и явь настолько переплелись, что невозможно определить, где реальность, а где призрачность».
…В воздухе его сумрачной прозы, полной колдовских чар и тревожной символики, такой конец кажется предсказанным, наведенным. Может быть, он не столь уж и невероятен для новой итальянской реальности, где террористы похищают бывшего премьер-министра в качестве заложника и мафия на равных борется с правительством. Но все-таки Томмазо Ландольфи, окончивший свои дни летом 1979 года, прожил жизнь отнюдь не в таинственно-романтической сказке. Он обрел себя не в стенах заколдованного замка и не среди неуловимых разбойников, как можно вообразить, читая его рассказы. Он имел дело с ситуацией несколько иного толка.
Ему было шестнадцать лет, когда в Италии победил фашизм. Ему не удалось укрыться ни в стенах родительского дома в Лацио, где он вырос, ни в лабиринтах филологии, которую он изучал во Флоренции. Реальность выволокла его из всех убежищ, лишила родительской защиты, пустила в стадо мужского лицея — с этого лицея в Прато выработалась у него, как свидетельствуют биографы, привычка воспринимать слова и явления иносказательно и символически: только так он и мог вынести доставшуюся ему реальность.
Реальность воцарилась ясная и недвусмысленная; она утвердилась на законе силы, на «воле масс», она не оставляла индивидууму никаких иллюзий на предмет свободы самоопределения.
Ландольфи не был ни политическим борцом, ни даже сколько-нибудь внятным оппонентом режима; скорее, он был «человек со стороны». Он сотрудничал после университета в литературных журналах больше нейтральных, чем антифашистских. И все-таки при Муссолини он угодил в тюрьму. Тотальное общество не щадило не только своих прямых противников — это-то было логично, оно не давало покоя и людям со стороны: никакому человеческому существованию, пытавшемуся остаться «самим собой», фашизм не обещал снисхождения. Он всех собирал в пучок, он все делал ясным, он все души высвечивал беспощадным светом. Здесь тоже была своя логика, логика всеобщей втянутости, — именно эту слепящую логику суждено было испробовать на себе молодому писателю: тут легла его судьба, его «тема».
Ему хотелось уйти в тень. Непроясненность его биографии (практически жизнь Ландольфи не описана даже в современных монографиях, посвященных его творчеству) — следствие этого всегдашнего стремления раствориться в воздухе. Уйти от вопросов. «Не быть».
Кажется, Сангвинети или кто-то другой из литераторов попросил его рассказать биографию. Ландольфи ответил: — Это не в моих силах. — Потом прибавил: — То, что это не в моих силах, в конце концов тоже факт моей биографии…
Он не любил давать интервью, не любил говорить по телефону, не любил ездить в автомобилях. Он ходил пешком. Ощущение такое, что он боялся любой формы социальной, психологической и даже просто физической зависимости, ангажированности, фиксированности в чьем-то поле зрения. В тень, в тень! Знаток и признанный переводчик русской классики, загляни он поглубже в украинские корни столь любимого им Гоголя, он нашел бы гениальную формулу своего страха у Григория Сковороды: «Ловил меня век — не словил», — но и Гоголь, панически бегущий от таинственных опасностей, был родствен Ландольфи этим страхом, только мания преследования, поселившаяся в душе итальянца середины XX века, имела отнюдь не таинственный источник: он был обложен ослепительным безумием фашизма.
В Италии 30-х годов, где на литературу вдруг пала обязанность стать продолжением тоталитарной реальности, имелось не слишком много альтернатив, но все-таки альтернативы имелись. В конце концов Ландольфи, с его причудливыми рассказами, мало напоминавшими реальность и еще меньше служившими той здоровой «ясности», которую насаждал режим, Ландольфи издавался. Он все-таки писал, и писал так, как считал нужным. Его отнесли к оппозиции совершенно определенного литературного толка — к герметикам. Общее действительно было: глобальное ощущение зла, воцарившегося в мире, стремление отделиться от этого зла непроницаемой стеной, наконец, дружеские отношения с Эудженио Монтале — Ландольфи, естественно, примкнул к герметизму, отчетливо оппозиционному направлению итальянской литературы.
Примкнул. Но не вписался.
В глубине, в основе, тут лежало капитальное несхождение.
Герметизм защищал, укрывал, спасал нечто — некую содержательность индивида.
Ландольфи же, защищая, укрывая, спасая от тоталитарного прожектора нечто, номинально означавшее индивида, — обнаружил, что он спасает… ничто. Индивид был насквозь пробит, просквожен беспощадным светом «целого». Он оказался прозрачен, ирреален в своем бытии… или небытии?
В сущности, бытие равно небытию — вот вывод Ландольфи. Вывод, вполне абсурдистский с точки зрения нормальной, здоровой логики и доставивший Ландольфи в истории современной итальянской литературы, да и в мировом литературном процессе (куда Ландольфи, с ростом популярности его книг, оказался прочно включен), репутацию какого-то неприкаянного чудака и парадоксалиста.
Для понимания рассказов Ландольфи нужен «ключ». Ключ вовсе не сюрреалистический, хотя в итальянскую прозу XX века Ландольфи оказался в конце концов вписан именно как сюрреалист. Это дело тонкое. Мне вообще плохо верится в искусство, которое ставит себе целью создать из элементов реальности нечто ирреальное, передать хаос и бессмыслицу через хаос и бессмыслицу. Хаос и так имеется. Художник или строит космос, или кончается как художник. Ключ, ключ нужен.
«Диалог о главнейших системах» (1937) по внешности — нагромождение нелепиц. Некий капитан преподает герою под видом персидского языка какой-то доморощенный волапюк; герой пишет на этом непонятном языке непонятные стихи и несет известному критику; критик думает, что его мистифицируют, валяет дурака, уклоняется от ответа; все это странное взаимное мороченье кончается тем, что герой сходит с ума. Или притворяется, что сходит. Рассказ, если читать его как «запись безумства», в лучшем случае может потешить нас в качестве пародии на филологическое псевдоумие. При чем тут к тому же Галилей?..
Однако, когда знаешь ключ к судьбе Галилея, хаотическая апология хаоса уже начинает выявлять в себе строй и смысл. А если вчитаться в интонацию, то ключ к рассказу дается в первой же фразе:
«Когда поутру встаешь с постели, кроме чувства изумления, что по-прежнему живешь, не меньшее изумление испытываешь и оттого, что все осталось в точности так, как было накануне…»
Постойте, а что, собственно, должно было произойти? Почему человек, доживший до утра, изумляется этому факту? Интонация такого восторга наводит на мысль, что нормой-то является не дожить до утра. Это и есть суть высказывания, какой бы невозмутимостью ни прикрывался здесь тихий ужас. С такой же невозмутимостью Эпиктет беседовал когда-то с господином, ломавшим ему ногу. Ландольфи пишет вовсе не о графомане, которому «подвернулся один англичанин», учивший его «персидскому языку», — речь идет о существовании индивида, изначально растоптанного в прах. Об изумлении человека, который дожил до утра в своем доме, причем к нему не ворвались с обыском, не поволокли на допрос, не заставили подписывать здравицу в честь дуче или фюрера. Может быть, тень застенка впрямую и не падает на героя Ландольфи. Может быть, он просто слышал рев восторженной толпы на залитом солнцем стадионе. Этого ему достаточно: теперь он живет в презумпции небытия.
Он был бы рад хоть на мгновение забыть о своей обреченности. Он хотел бы бежать… куда? Куда бежать? В «чистое искусство», в «твердыню слова»[1] — но всякое слово заранее взято на прицел: ничего нельзя назвать своим именем. Что делать? Выдумать «новый язык»? Но все поймут, зачем эта выдумка. Круговой страх: критик юлит, крутит, говорит как бы не от своего лица; он хочет выйти сухим из воды, он уверен, что его топят, провоцируют. Да что критик — автор стихов сам отрекается от написанного. Того прошибает холодный пот, этот сходит с ума…
У человека нет убежища ни в реальности, ни в словесности: его все равно высветят, выхолостят. Попытка спрятаться — такая же иллюзия, как все в этом мире… тут посещает героя Ландольфи самая страшная догадка: не в том дело, что спрятаться негде, а в том, что человеку нечего прятать.