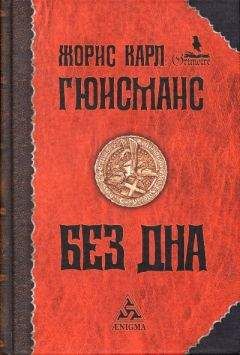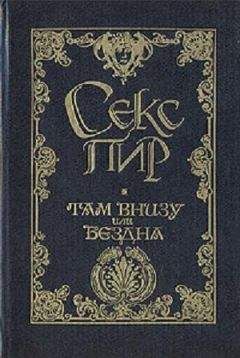Жорис-Карл Гюисманс - В пути
Пассив ужасен!.. Взять свою жизнь и бросить ее в горнило монастыря! Но встает вопрос: сможет ли тело выдержать подобное лекарство? Я изнежен и немощен, привык поздно вставать. Слабею, если не подкреплюсь мясною кровью, и стоит мне изменить часы еды, как сейчас же начнутся невралгии. Я ни за что не выживу там на овощах, сваренных в горячей воде, или на молоке, которое я ненавижу и плохо перевариваю.
А стоять часами на коленях на полу, мне, который так мучился, едва пробыв четверть часа на ступени в церкви улицы Глясьер…
Наконец, я так привык курить, что совершенно не в состоянии отказаться от папиросы, а почти наверное в монастыре мне этого не позволят.
Нет, отъезд положительно пагубен с точки зрения телесной, и при моем теперешнем здоровье любой врач отсоветует мне отваживаться на подобную попытку.
Но если рассматривать вопрос со стороны духовной, то также следует признать, что вступление в Траппу — нечто страшное.
Боюсь, что не сдадутся моя душевная черствость, скудость моей любви. Что станется тогда со мной в такой среде? В равной степени возможно, что в этом уединении, среди полного безмолвия на меня нападет смертельная тоска. А если так, то нечего сказать, хороша радость шагать по келье и высчитывать часы! Нет, для этого нужна уверенность в подкреплении Господнем, необходимо всецело проникнуться Творцом.
Есть еще два грозных вопроса, мысль о которых мне была мучительна, и над которыми я никогда поэтому не останавливался. Но неизбежно надо исследовать их, если они встали передо мной, преграждают мне путь. Это вопросы исповеди и принятия Святых Тайн.
Исповедаться? Да, я согласен. Я так опротивел самому себе, так пресыщен своей жалкой жизнью, что в этом вижу лишь необходимое, заслуженное искупление. Я жажду уничижения, хочу искренне просить прощения. Но разве не в праве я желать, чтобы покаяние было даровано мне при условиях менее невыносимых!
Я верю аббату, что никто не займется мною у траппистов, никто, говоря иначе, не ободрит меня, не поможет перенести мучительно-постыдное извлечение греха. Я уподоблюсь до некоторой степени больному, которого оперируют в больнице вдали от друзей, вдали от родных!
Исповедь, — продолжал он свои думы, — удивительное открытие! Она — наиболее чуткое горнило испытания души, нестерпимейшее бремя, которое церковь возложила на человеческую суетность.
Как странно! С легким сердцем беседуют люди о своих проступках, постыдных деяниях с друзьями, иногда в разговоре даже со священником. Кажется, что ни к чему это не обязывает, и, быть может, мы даже с легкой примесью хвастливости признаемся в маловажных прегрешениях. Но иное дело открывать душу, стоя на коленях, обвинять себя после молитвы. Душа не обманывается этим совпадением, и забава превращается в истинно тягостное унижение. Отчетливо познает она на суде своей совести коренную перемену. Ясно чувствует грозную силу Таинства и, помышляя о нем, трепещет — та душа, которая недавно улыбалась.
Не ужасно разве стоять перед старым монахом, который, выслушивая меня, изойдет из вечности молчания, не умилит, быть может, даже не поймет меня! Никогда не исчерпаю я своих горестей, если не протянет он мне посоха помощи, если даст задохнуться и не напоит души моей светом облегчения!
Причастие страшит меня не меньше. Чудовищно сметь приблизиться, и словно скинию предложить, Ему свое гноище, едва очищенное покаянием, гноище, осушенное отпущением, но все еще дымящееся! Нет, я не настолько дерзок, чтобы нанести Иисусу эту хулу. Но к чему тогда удаляться в монастырь?
Нет, чем больше думаешь, тем неизбежнее приходится признать, что безумно было бы с моей стороны отважиться на поездку в Траппу.
Теперь актив. Собрать в узел свое прошлое и принести его, чтобы обеззаразить, в монастырь, это было бы единственно чистое дело моей жизни. И если б это не стоило мне ничего, то какая же тогда заслуга?
С другой стороны, нет никаких доказательств, что тело мое с его немощами не выдержит трапистского устава. Пусть я не верю, даже и не притворяюсь верующим, вместе с аббатом Жеврезе, что такая пища принесет мне пользу, но разве я не должен надеяться на высшее милосердие и признать, что привлечен туда не затем, чтобы слечь в постель или уехать обратно на другой день после приезда! Если не считать, что такова предустановленная мне кара, назначенное искупление. Но нет, бессмысленно полагать, что Господь столь безжалостен!
Неважно, если пища будет суровой, только бы переваривал ее желудок. Ничего не значит плохо питаться, вставать ночью, если тело справится с этим. И я всегда смогу выкурить украдкой папиросу где-нибудь в лесной чаще.
Быстро промчатся восемь дней, и я не обязан, наконец, пробыть их все, если ослабеет плоть.
С точки зрения духовной жизни лучше всего положиться на благость Божию, верить, что не покинет она меня, уврачует мои раны, очистит глубину души. Я понимаю, что эти доводы не покоятся на земной достоверности. И однако, владея доказательствами, что Провидение повлияло уже на мою судьбу, я не вправе считать их менее убедительными, чем те чисто телесные внушения, на которых опирается противное предположение. Нельзя забывать, что обращение совершилось помимо моей воли, и даже самая слабость искушений, ныне осаждающих меня, дает достаточно веское основание не падать духом.
Трудно представить соизволение более скорое и совершенное. Обязан ли я собственным молитвам за эту милость или иноческим безвестным молениям, которые возносились за меня, несомненно одно: с некоторого времени умолк мой мозг, затихла плоть. Бывают часы, когда мне еще является чудовище Флоранс, но не приближается, окутанная сумерками и слова молитвы „Отче Наш“: „Ne nos inducas in tentationem“ [43], обращают ее в бегство.
Перемена необычная и, однако, бесспорная. И не следует сомневаться, что в пустыне поддержка будет дарована мне сильнее, чем в Париже.
Остаются исповедь и причастие.
Исповедь… Но следует предаться на волю Божию. Господь изберет монаха и от меня только потребуется покорность чужому попечению. Пусть оно будет жестким; тем лучше. Сильно выстрадав, я сочту себя менее недостойным Святых Тайн. Мучительнее всего, — продолжал он размышлять, — вопрос причастия.
Аббат, строго говоря, прав, когда однажды ответил мне: „И я не больше вашего достоин приблизиться к Христу. Благодарение Создателю, я чист от грязи, о которой вы говорите, но не думайте, что я не стыжусь, когда иду утром служить обедню и вспоминаю тлен, который занимал меня вчера? Надлежит, видите ли, всегда переноситься мысленно к Евангелию, повторять себе, что Он пришел ради слабых и негодующих и не отвращается от мытарей и прокаженных. Следует проникнуться убеждением, что причастие есть бдение среди опасностей, что в нем помощь, что даруется оно, как гласит заупокойная месса, как духовное лекарство. Люди прибегают к Спасителю, как к врачу. Приносят ему свои страждущие души и Он излечивает их!“
Я пред лицом неизвестности, — раздумывал Дюрталь. — Сетую на свою зачерствелость, на шатания мысли. Но кто мне поручится, что я останусь таким, решившись причаститься? Если я верю, то неизбежен вывод о таинственном воздействии Христа чрез Святые Дары. Боюсь стосковаться в одиночестве. Но здесь разве весело мне! У траппистов я избавлюсь, по крайней мере, от этих колебаний, от вечных страхов. Изведаю преимущество быть наедине с самим собой… И наконец… одиночество и без того знакомо мне! Или не живу я пустынником после смерти Дез Эрми и Каре… У кого я бываю? У нескольких издателей, нескольких писателей, в общении с которыми не нахожу ничего приятного. Безмолвие для меня благодеяние. У траппистов я не услышу глупых росказней, жалких поучений, скудоумных проповедей. Благословлять должен я, что уединюсь, наконец, вдали от Парижа, от людей!»
Его думы умолкли и с оттенком послушной усталости он грустно решил: «Бесполезна эта распря, тщетны рассуждения. К чему стремиться учесть состояние души, исчислять пассив ее и актив, трудиться над сравнением счетов? Неведомо почему, но я сознаю, что должен ехать. Восставая из глубины моей души, чуждая сила влечет меня туда, и я твердо убежден, что мой долг ей покориться».
Но десятью минутами позже рухнула решимость Дюрталя. Он чувствовал, как подкрадывается к нему трусость, собирал еще лишний раз доводы против отъезда, рассуждал, что основания оставаться в Париже осязаемы, разумны, вески, тогда как те, иные, неуловимы, сверхъестественны, граничат с мечтой, быть может, ложны.
И, боясь предстоящего, он измышлял страхи, что не достигнет его, говорил себе, что его не примет пустыня трапистов или откажет ему в причастии, склонялся к среднему выходу — исповедаться в Париже и причаститься в обители.
Но тут в нем пробудилось что-то непонятное; вся душа его возмутилась, и чья-то властительная воля пронизала его, запрещая лукавить. И он подумал: «Нет, я должен испить чашу до последней капли, все или ничего. Исповедь у аббата означает непокорство велениям непреложным и таинственным. Я способен после того совсем не поехать к Нотр-Дам-де-Артр».