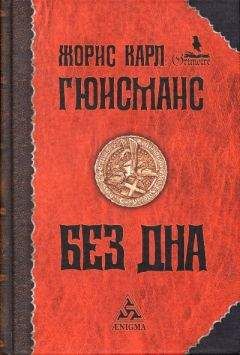Жорис-Карл Гюисманс - Там внизу, или Бездна
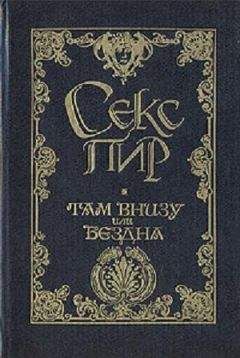
Обзор книги Жорис-Карл Гюисманс - Там внизу, или Бездна
Жорис Карл Гюисманс
ТАМ, ВНИЗУ, ИЛИ БЕЗДНА
(Роман)
– Ты так уверовал в эти мысли, мой друг, что ради истории Жиля де Рэ забросил супружеские измены, любовь, честолюбие – все эти излюбленные темы современного романа. – Помолчав, он прибавил: – Нелепо и несправедливо было бы упрекать натурализм за его язык черни, за словарь мусорных ям и больниц; во-первых, иногда этого требует содержание, затем не забудем, что разящая сила выражений или едких слов помогает созданию творений великих и могучих: доказательство этому – «L'Assomoir» Золя. Нет, вопрос в другом. Натурализм упрекаю я не за тяжелый цемент его грубого стиля, но за низменность мыслей. Я упрекаю его за то, что он ввел материализм в литературу, восславил искусство толпы!
Да, что ни говори, мой милый, но все же какое это примитивное учение, какая узкая система! Лишь откровения плоти, непонимание даже той истины, что искусство начинается там, где бессильны чувства! Ты пожимаешь плечами, но скажи мне – постиг ли твой натурализм хотя одну из тех грозных тайн, которые нас окружают? Ничуть. Когда речь идет об объяснении страстей, когда надо исследовать рану, залечить хотя бы самую малую царапину духа, он все сводит к животным стремлениям, к инстинктам. Похоть и безумие – таков единственный его ответ. Утопая в пустословии, он пытался постигнуть лишь телесность человека, в чувствах видел болезнь плоти, сделался как бы близоруким знахарем души!
Знаешь, Дюрталь, мало того, что он неискусен и туп, он еще и зловонен, когда, восхваляя современную жестокую жизнь, кичится новой американской моралью, воспевает грубую силу, прославляет денежный сундук. Отменно покорный, склонился он пред пошлыми вкусами толпы и пренебрег стилем, отверг всякую гордую мысль, всякий порыв души к возвышенному. Честное слово, он явил столь верное олицетворение мещанской мысли, что кажется мне рожденным Лизой, колбасницей «Брюха Парижа», сочетавшейся с Гомецем!
– Ты слишком увлекаешься, – ответил обиженно Дюрталь. Раскурив папиросу, он продолжал: – Я такой же противник натурализма, как и ты, но это еще не причина отрицать безусловные заслуги, оказанные натуралистами искусству. Разве не они в конце концов освободили нас от бесчеловечных идолов романтизма, не они разве устранили из литературы идеализм тупиц и худосочие изнуренных безбрачием старых дев!
В общем, они после Бальзака создали образы видимые и осязаемые, установили согласие между ними и средой, двинули начатое романтиками развитие языка, познали истинный смех, иногда владели даже даром слез и, наконец, не всегда вдохновлялись столь пламенно пошлостью, как ты говорил!
– Они любят свой век, и в этом их приговор!
– Ни Флобер, ни Гонкур не любили, черт возьми, своего века!
– Согласен, они художники истинные, мятежные, надменные. Я исключаю их. Я охотно допускаю даже, что Золя – великий пейзажист, удивительный знаток толпы и толмач народа. К тому же, благодарение Создателю, он не до конца следовал в своих романах теориям своих статей, в которых проповедует позитивизм в искусстве. Но у лучшего из его учеников, у Рони, единственного талантливого романиста, целиком усвоившего мысли учителя, они выродились в прилежно собранную выставку мнимой учености, в науку подмастерьев, изложенную пошлым школярским языком. Нет, бесспорно, вся натуралистическая школа, поскольку прозябает она еще до наших дней, отражает влечение времени воистину ужасного. Она привела нас к искусству такому пошлому, столь пресмыкающемуся, что мне хочется назвать его тиной. Ты сомневаешься? Перечитай их последние книги, что встретишь ты там? Смешные историйки, разную смесь, выхваченную из журналов, скучные сказки, червивые рассказцы – и все это изложено стилем, напоминающим безвкусное, дешевое цветное стекло, и даже не осмыслено каким-либо пониманием души, жизни. Прочитывая их книги, я сейчас же забываю эти убогие описания, эту пошлую болтовню. У меня остается только удивление, что человек пишет триста, четыреста страниц, и ему совсем нечего открыть нам, нечего сказать!
– Послушай, де Герми, если тебе все равно, поговорим о другом. Мы никогда не поймем друг друга в вопросе о натурализме, одно имя которого уже пугает тебя. Ну а что с твоей медициной Маттеи? В каком положении она? Помогают ли, по крайней мере страждущим, твои фиалы с электричеством, твои пилюли?
– Что же! Они все же целебнее средств официальной медицины, хотя, конечно, и они не обладают долгим, верным действием; не все ли равно в конце концов... Но мне пора уходить, мой милый, бьет десять часов, и твой привратник потушит газ на лестнице. Будь здоров! До скорого свидания!
Заперев дверь, Дюрталь подбросил коксу в камин и задумался.
Уже целые месяцы длилась в нем внутренняя борьба, и все сильнее волновал его спор с другом. Рушились теории, в неколебимости которых он был уверен.
Несмотря на всю ожесточенность мыслей де Герми, они смущали его. Конечно, натурализм, преподносимый в однообразных работах посредственностей, вращавшихся в неизменной обстановке гостиных, вел вернейшим путем к полному бесплодию, даже когда он был честным, проницательным. Лишенный этих качеств, он выявлялся в постыднейшем пустословии, в утомительнейших повторениях. Но вне натурализма Дюрталь не видел возможности романа и не хотел возврата к напыщенным бредням романтиков, к утомительным творениям Шербюлье и Фелье, к плаксивым рассказикам Терье и Занд.
Но что же тогда? И, поставленный в тупик, Дюрталь упорно преодолевал туманные учения, сомнительные посылки, замыслы трудновообразимые, не укладывавшиеся в рамки рассудка. Он лишь смутно ощущал, что в нем происходит, не решался войти в лабиринт, страшась, что будет скитаться в нем, не обретет исхода.
Он говорил себе, что нужно сохранить документальную достоверность, точную отделку подробностей, меткий, нервный язык реализма. Но наряду с этим следует зачерпнуть влагу тайников души и не пытаться таинственное объяснять болезнью чувств. Пусть сам собою распадется роман на две части, но пусть будут они спаяны, или, вернее, как в жизни, слиты. Одна посвятит себя душе, другая телу. Пусть роман отдастся изучению их противодействия, борьбы, согласия. Надо выйти вслед за Золя на проложенную им широкую дорогу и вместе с тем необходимо параллельно пройти душой высокий путь и, шествуя обоими путями, сближая их, создать одухотворенный натурализм, своеобразно горделивый, по-иному совершенный, могучий!
Задача, до сих пор никем не выполненная. Достоевский ближе других к этим замыслам. Но милосердный русский писатель воплощает скорее евангельский социализм, чем одухотворенный реализм! В современной Франции, утратившей веру в непогрешимость правдивого рассказа о человеческой натуре, господствуют сейчас два течения: либеральное и декадентское. Первое сближает натурализм с гостиными, лишает его всего смелого, всяких исканий нового языка. Декаденты более решительны: они отвергают телесность образов и, постигая якобы дух, в действительности утопают в каком-то непостижимом телеграфном шифре. На деле они под намеренным безумием своего стиля только скрывают безмерную скудость мысли. Что касается орлеанистов истины, то Дюрталь не мог без смеха вспомнить о болтливом, скучном хламе – порождении этих так называемых психологов. Никогда не погружались они в исследование неведомых долин души, не открыли ни малейшего забытого уголка страстей. В сахарную водицу Фелье они подбрасывали крупинки Стендалевой соли, стряпали полусоленые, полусладкие лепешки – истинную литературу Виши.
Они решали вопросы философии, пересыпали свои романы школьными философскими сочинениями, точно простой намек Бальзака – хотя бы, например, слова старого Гюло в «Кузине Бетти»: «Могу я взять малютку?» – не освещает несравненно глубже какого-либо малейшего движения души, чем все измышления школьного конкурса! Нет! Не от них ждать стремления ввысь, порыва к неземному. Дюрталь говорил себе, что истинный психолог века не Стендаль, ими превозносимый, но удивительный Гелло, непостижимая неудача которого граничит с чудом!
И он пришел к убеждению, что де Герми прав. Да! Нет ничего ценного в современном хаосе литературы. Ничего, кроме жажды сверхчувственного! Но, не найдя исхода более возвышенного, она, спотыкаясь, устремлялась к спиритизму и оккультному.
В стремлении приобщиться во что бы то ни стало к начертанному идеалу мысль его понеслась окольными путями, остановилась перед другим искусством, перед живописью. Там обрел он идеал свой в целостно воплощенных творениях первых мастеров!
В Италии, в Германии, прежде всего во Фландрии, законченно воссоздали они белоснежное покрывало святых душ. В правдивой красе, терпеливо сотворенные, в рамках жизни начертаны были образы покоряюще истинные и достоверные. Небесные радости, мучительные печали, мир духа, душевные бури исходили от образов этих, часто казавшихся обыденными, ликов иногда заурядных, но воссозданных могуче. Здесь как бы совершалось перевоплощение покорной, обузданной плоти, отторжение от чувств, устремление в бесконечную высь.