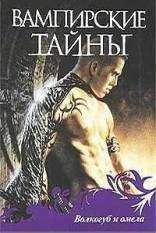Жюстин Пикарди - Дафна
Симингтон открыл глаза, посмотрел на нее и тут же закрыл их снова. Он знал о протекающей крыше и распространяющейся сырости, о том, что плесень, подобно проклятию, расползается по его ящикам, папкам и картонкам. Пару недель назад, когда Симингтон еще был в состоянии подниматься и спускаться по ступенькам, он осмотрел самые ценные рукописи и обнаружил, что они покрылись зеленой плесенью. Страницы тетради стихов Эмили были влажными и липкими, как его руки, пальцы дрожали, когда он пытался стереть плесень с бумаги, а чернила от его прикосновений исчезали, растворялись, и слова, принадлежащие перу Эмили, становились невидимыми, как и строчки Брэнуэлла. Увы, очень многое из того, что сочинил Брэнуэлл, было невидимым: в нем просто невозможно что-либо понять, даже прожив столько лет рядом с его рукописями, пытаясь чуть ли не на ощупь угадать написанные им слова.
Симингтон чувствовал, как плесень поднимается со страниц рукописей, заползает ему в рот, проникает дальше — в легкие, разрушая их, овладевает его телом, запускает свои щупальца все глубже и глубже, захватывая новую территорию внутри него и в его доме. Беатрис послала за доктором, который сказал, что у Симингтона пневмония и его необходимо положить в больницу, но тот отказался.
— Я никуда не поеду, — сказал он.
Он давно ничего не писал. Его последнее письмо Дафне было отправлено несколько недель назад, когда он вдруг решил, что надо объяснить ей: лорд Бротертон никогда не интересовался рукописями Бронте из своей коллекции, даже не видел их ни разу. «Мне приходилось все делать самому, — писал он Дафне, охваченный внезапным раздражением. — Лорд Бротертон лишь финансировал мою работу». Вчера пришел наконец ответ от Дафны: Беатрис принесла письмо в его спальню вместе с чашкой слабого чая.
— Прочитать вслух? — спросила она, но Симингтон сказал, что сделает это сам; Беатрис лишь раздраженно щелкнула языком.
«Дорогой мистер Симингтон! — читал он. — Я так долго не сообщала Вам никаких новостей, но теперь счастлива уведомить, что близка к завершению книги о Брэнуэлле. Должна, однако, сказать, что крайне разочарована рукописями, расшифрованными для меня в Британском музее. Я надеялась, что они наконец продемонстрируют нам нечто, способное поставить Брэнуэлла вровень с Шарлоттой и Эмили, по крайней мере с Энн, но увы: написанное им крайне незрело даже для молодого человека, рассказы утомительно скучны, многословны, трудно ухватить нить повествования, и, прокорпев над ними все это время, я вынуждена была прийти к заключению, что его писательские способности уступали таланту сестер. Если он чем и замечателен, так главным образом разработкой концепции Ангрии — ее истории, политики, географии и т. д. Все это страшно меня разочаровало: я-то надеялась привести пространные цитаты из его рукописей, но не нашла ничего подходящего, если не считать страницу или две, и, откровенно говоря, решила не тратить времени напрасно. Иными словами, Брэнуэлл не оправдал моих надежд…»
Читая, Симингтон испытывал ужасное ощущение постигшего его несчастья. Ему хотелось прервать чтение, швырнуть письмо на пол, разорвать на мелкие кусочки, изгнать из памяти ее слова, но он не мог: ему надо было добраться до конца. «Тем не менее, — бежала дальше машинописная строчка письма, — мне кажется, я тщательно и нелицеприятно проследила развитие Брэнуэлла с самого детства, с его мальчишеских лет, до зрелости и упадка, привела цитаты из его прозы и поэзии, там, где это было необходимо (обычного читателя, наверно, приведет в некоторое замешательство Ангрия, но тут ничего не поделаешь: помимо ангрианских хроник после него мало что осталось). Я пришла к выводу, что и никакого романа с миссис Робинсон не было, совершенно уверена — Брэнуэлл все это выдумал…»
Прервав чтение, он отложил письмо. Итак, Дафна, как и все другие, махнула рукой на Брэнуэлла, несмотря на все былые обещания защищать его, присоединилась к его хулителям, причислила к фантазерам, тешащим себя несбыточными иллюзиями, назвала бесталанным писакой, придумавшим себе несчастную любовь, которая стала якобы причиной его заката и смерти. Да будет так.
— Как постелешь, так и поспишь, — проворчала ему на ухо мать.
— Это не поможет, да и когда ты вообще помогала мне?
— Я помогу тебе, Алекс, — сказала Беатрис. — Всегда лезла из кожи вон ради тебя и твоих мальчиков.
«Мальчики, — подумал Симингтон, беззвучно двигая губами. — Мальчики». Теперь они рассеяны по миру, за морями и океанами, далеко от дома, они потеряны для него, потеряны, как строчки Эмили.
— Попросить Дугласа, чтобы он приехал навестить тебя?
Но Симингтон не услышал ее: он погружался в темноту, обволакивавшую его сознание.
— Брэнуэлл, — прошептал он едва шевелящимися губами.
— Кого бранить? — спросила Беатрис. — Не понимаю, что ты мне хочешь сказать, Алекс. Попытайся произнести это более отчетливо…
— Брэнуэлл Бронте, — пробормотал Симингтон, но тот по-прежнему хранил молчание.
Глава 39
Хэмпстед, сентябрь
Я сижу в моей комнате, собственной комнате на самом верху дома. Это маленький чердак с видом на крыши и дымоходы, и, если высунуться в окно, увидишь пустошь и грачей, кружащихся по вечерам над деревьями. Я сняла это жилище у супружеской пары, искавшей помощи по уходу за детьми. Слышно, как мальчики играют в футбол в саду — их трое, всем меньше десяти; в условия сделки входит обязанность присматривать за ними пару вечеров в неделю. Мне это не в тягость: я люблю детей, люблю даже шум, который они поднимают, их голоса, звучащие в доме; кажется, и они меня любят. Я бесконечно играю с ними в «монополию» и карты, а это значит, что за жилье с меня берут меньше и я могу позволить себе жить достаточно близко от книжного магазина и по-прежнему ходить на работу пешком. Думаю, Пол предпочел бы, чтобы я переехала подальше, на другой конец Лондона, но я не вижу в этом необходимости. Не он держит меня здесь, в Хэмпстеде, и не близость к местам детства Дафны, совсем нет, хотя они и стали привычной для меня частью ландшафта. Здесь я выросла, и мне нравится тут жить, не важно, столкнусь я еще с Полом или нет.
Впрочем, я не встречала ни Пола, ни Рейчел с тех пор, как она приходила в книжный магазин в начале месяца. Правда, я позвонила ей пару дней назад и узнала адрес — не очень далеко, по ту сторону пустоши, в Хайгейте.
— Придете навестить меня? — спросила она, но я отказалась, добавив, что пришлю копии писем Симингтона и Дюморье по почте.
— Очень великодушно с вашей стороны, — сказала она.
Но я вовсе не чувствовала, что совершаю самоотверженный поступок. Наоборот, ощутила облегчение, что избавляюсь от этих писем. У меня по-прежнему оставался собственный набор копий, которые я сложила в папку и запрятала на самое дно ящика в письменном столе. Я не собираюсь ничего с ними делать, по крайней мере сейчас. Не планирую писать диссертацию о Дюморье и Бронте или возвращаться в колледж. Не знаю точно, чем буду заниматься, но в настоящий момент я счастлива. Никогда раньше не чувствовала себя такой свободной — может быть, только тогда, когда бежала месяц назад вдоль скал из Менабилли, но теперь нет затаенного страха. Не могу объяснить причины этого, хотя, наверно, они как-то связаны с тем, что я ушла наконец от Пола и начала самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Я только что возобновила контакты со своей живущей в Америке подругой Джесс, чему она очень обрадовалась, пригласив навестить ее этой зимой.
Что будет дальше, я не знаю, и в этом тоже есть нечто раскрепощающее. Может быть, именно поэтому мне Не хочется писать диссертацию — пытаться подвести убедительную научную теорию под свои чувства к Дафне Дюморье, хотя, конечно, иногда я думаю о ней, стараюсь понять, что она для меня значит. Однако я уже не верю, что ее истории как-то влияют на мою жизнь: у меня нет ощущения, что я живу в некоей повторяющейся эхом версии «Ребекки» или «Моей кузины Рейчел». Когда смотрю в зеркало, не вижу никого, кроме себя.
— Не оглядывайся, — сказал мне Пол, когда мы расставались.
Не знаю, что он имел в виду: или не хотел, чтобы я, уходя, оборачивалась и махала рукой, или предлагал мне двигаться дальше и не зацикливаться на прошлом. Если именно это, то увы — он хотел невозможного. На днях я побывала там, где жила с родителями, просто хотела взглянуть на дом, и заметила знакомую пожилую пару, занимавшую квартиру под нами; они стояли у входа, узнали меня и помахали в знак приветствия. Они только что вернулись из магазина и пригласили меня на чашку чая, я согласилась, и мы в конце концов заговорили о моих родителях: эта пара долгие годы владела их квартирой, еще до женитьбы отца, когда он жил там один. Не понимаю, почему не догадалась расспросить их об отце раньше, это было так легко сделать, наверно, у меня в какой-то мере суженное поле зрения: как будто никто другой не мог ничего помнить о моем отце только из-за того, что я его не знала.