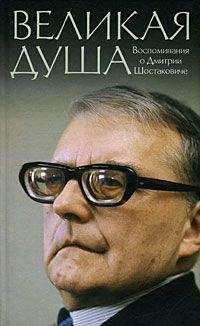Охота на либерею - Федоров Михаил Иванович
Гийом подвинул к столу тяжеленную лавку, которая по случаю вечернего времени уже стояла у печи. Он, живя в доме больше месяца, никак не мог понять — как тщедушная старушка её ворочает, ведь даже ему это даётся нелегко. Самое интересное, что он ни разу не видел, как она это делает — все перемещения массивной лавки, основанием которой служили два толстых сосновых полена, осуществлялись в то время, когда его не было дома.
Брат Гийом, перекрестившись на тёмный лик какого-то православного святого на божнице, присел за стол и, взяв протянутую бабкой деревянную ложку, стал хлебать варево. Он почти не чувствовал вкуса — кажется, это полба. В каше не было ни единого мясного волокна — дом достатком не отличался. Да это и неважно. Сейчас главное — потуже набить живот, ведь завтра ещё до рассвета ему надо отправляться в путь. А мясо можно и в дороге поесть.
Гийом ещё перед тем, как встать к бабке на постой, спрятал котомку с солониной, крупой, хлебом и маленьким медным котелком в сугроб у забора, основательно присыпав тайник снегом — чтобы собаки не нашли. Благо снег в здешних краях выпадает рано. Но своего пса у старухи не было — уже легче — а уличные во двор вряд ли забредут, поэтому припасённая в дорогу снедь, скорее всего, будет в сохранности.
Наевшись, брат Гийом положил ложку, отодвинул горшок и, встав, вновь перекрестился на икону. Затем поклонился старухе.
— Благодарствую, хозяюшка.
Старуха как-то странно всхлипнула, шмыгнула носом и кинулась целовать Гийому руку. Потом убрала со стола горшок с ложкой и, отойдя в сторону, встала у стены.
— Спать пора, — сказал брат Гийом, — завтра ухожу. На Соловки мне надо.
Старуха снова шмыгнула носом.
— Куда ж ты? Зима на дворе. Да хоть бы обоза какого дождался.
Про обоз — это она верно сказала. Одному человеку зимой в лесу да в дальней дороге — верная смерть. Не от холода, так от волков. Но то обычному человеку.
— Бог не оставит верного раба своего.
Старуха по ступенькам взобралась на полати, а брат Гийом придвинул лавку к стенке печи. Кирпичное сооружение остывало медленно, и до утра точно останется источником тепла. А утром он уйдёт. Брат Гийом давно научился быстро переходить ко сну. Для этого надо только освободить голову от мыслей — всяких, нужных и ненужных, светлых и тёмных, насущных и не очень. Когда-то он пытался приводить чувства в порядок с помощью молитв, но они почему-то именно в подобных ситуациях, когда надо было быстро заснуть накануне тяжёлого дня, оказались не очень действенны. Но позже, когда он три года жил среди лапландцев, местный языческий колдун научил его освобождаться от суеты мира сего. Надо же — лапландский колдун — но и от него можно взять что-то полезное! Конечно, брат Гийом никому не рассказал об этом. Чего доброго, он тогда мог и под суд инквизиции попасть — в те годы он был совсем молодым иезуитом, не имевшим перед орденом и Святой католической церковью никаких заслуг. Сейчас, конечно, его инквизиции не отдали бы — уж больно ценен он для ордена, но епитимью наложили бы обязательно, а это… это ему не надо. Да и Церкви ни к чему.
Брат Гийом расслабил тело и представил, что находится внутри яйца с неповреждённой скорлупой. Он начал растворять мысли, сжигая их синим огнём, чувствуя при этом, как в душу приходит умиротворение. Обычно для засыпания ему было нужно не более минуты, но сейчас необходимо точно определить момент завтрашнего пробуждения. Время предстало перед ним в виде прозрачной линии, идущей из невообразимой дали в непостижимую бесконечность. Линия была разделена на большие отрезки — тысячелетия, те на более мелкие — века. Брат Гийом, уже находясь на грани сна, отыскал на ней совсем коротенький отрезок — день сегодняшний, уже переходящий в завтра, и сделал мысленную отметку в виде тоненькой риски, пересекающей её сверху вниз. Для верности подвесил там колокольчик, который, слышимый только ему, должен был зазвенеть, разбудив в нужный момент. Спустя неуловимое мгновение брат Гийом спал…
…Колокольчик не подвёл. Да и не было ещё случая, чтобы он подводил. Брат Гийом открыл глаза. В избе было тихо, только шебуршали в углу мыши, да по руке пробежало какое-то быстрое насекомое. Брат Гийом щёлчком пальца сбил его на пол. Сел на лавке, опустив босые ноги на пол из широких толстых сосновых досок. В избе было ещё тепло, но по полу уже тянуло холодным воздухом. Брат Гийом намотал на ноги портянки, обулся, взял с подголовья серый льняной полукафтан, подшитый шерстяной тканью и обильно покрытый заплатами. Одежда была тёплой, но брат Гийом сознательно придал ей такой вид, чтобы на неё не польстился бы ни один самый алчный разбойничек, коих ему довелось повидать в здешних краях уже немало. Полукафтан был измазан сажей, а к короткой поле прочно присох, въевшись в ткань, ошмёток коровьего навоза.
Брат Гийом осторожно подошёл к двери и взялся за ручку. За спиной что-то громко зашуршало. "Вот же неугомонная старуха, — раздражённо подумал иезуит, — и не спится ей". Он обернулся. Хозяйка дома стояла возле печи и грустно смотрела на него.
— Не хотел будить тебя, хозяюшка, — первым заговорил брат Гийом, — благодарствую за хлеб, за соль.
— Негоже так — тайком уходить, — сказала старуха. Голос её не выражал осуждения, но брат Гийом дрогнул.
Он поступил неосмотрительно, нарушив неписаные законы местных жителей. И если старуха что-то заподозрит… Брат Гийом тайком ощупал левый рукав. Пальцы ожидаемо наткнулись на тонкую полоску стали.
— Сын у меня скоро из Москвы придёт, — всё так же равнодушно произнесла старуха, — думала, благословление ему дашь. Время нынче военное. Авось поможет.
Брат Гийом облегчённо вздохнул. Его опрометчивость оказалась не настолько явной, чтобы бабка догадалась, что он здесь чужой.
— Как звать чадо? — елейным голосом спросил он.
— Ефимом крещён.
— Я помолюсь за него.
Старуха внезапно кинулась к нему и бухнулась на колени, обнимая изъеденные молью валеные сапоги иезуита. Брат Гийом, привыкший невозмутимо встречать любые неожиданности, остался неподвижен, бесстрастно глядя на неё сверху вниз. Старуха подняла к нему лицо. По щекам её обильно катились слёзы.
— Помолись, божий человек, помолись! — страстно заговорила она. — Сынок мой в государев полк повёрстан. По весне за Москву стоял, едва отсиделся в кремле от окаянных басурман. Стрелой был ранен в грудь, едва жив остался [23]! Помолись, родной, век тебе благодарна буду, и сынку скажу, чтобы тебя…
Старуха на мгновение запнулась, не в силах сообразить, чем её сын может помочь человеку, который, в её представлении, и так ближе к Богу, чем он. А встретятся ли они, чтобы помочь божьему человеку ратным делом? Да бог весть! Тут не знаешь, что через месяц будет, да что там через месяц! В Каргополь басурмане, конечно, не дойдут, так ведь сынок далеко, да и божий человек уже уходит.
Брат Гийом перекрестил её:
— Буду молиться за раба божьего Ефима. Не печалься, хозяюшка. Вижу, вижу, как через две седмицы явится он домой. Жди и готовься.
Иезуит ещё раз перекрестил старуху и осторожно освободил ноги от её охвата. Перекрестился сам, подняв глаза на божницу и на прощанье глянул на хозяйку дома. Она стояла на коленях, высоко держа мокрое от слёз лицо. Глаза её светились такой радостью и надеждой, что в сердце брата Гийома, всегда послушное его воле, сделало несколько лишних ударов.
Но нет, прочь, прочь сострадание и жалость! Сострадания достойны лишь католики, а все остальные — не важно, христиане или нет — лишь средство достижения цели.
— Жди, — повторил брат Гийом и вышел из избы.
Во дворе он, раскидав сугроб, отыскал свою котомку со съестными припасами, перекинул через плечо и, хлопнув калиткой, покинул приютивший его дом. В окне, освещённом изнутри слабым огоньком масляной плошки, едва виднелось лицо старухи, крестившей его на дорогу.
Брат Гийом знал, что обоз на Москву уходит из Каргополя ещё затемно. Он должен выйти вместе с ним, чтобы избежать расспросов бдительных стражников — кто он такой да по какому поводу и куда направляется в такую рань, и почему один? Иезуит быстро шёл по заснеженным улочкам северного города, с удовлетворением убеждаясь, что ночная метель была не слишком обильной. Человеческие следы, конечно, замело, но колею, наезженную большим количеством саней и натоптанную сотнями лошадиных копыт — нет.