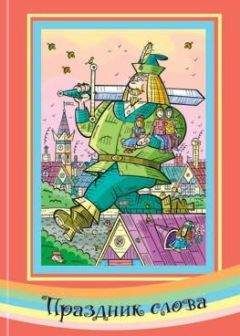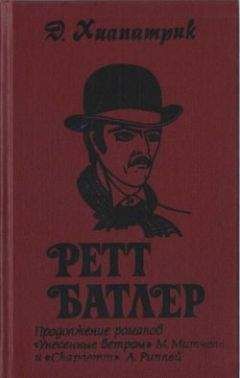Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
– Может, обойдется, – неуверенно сказала Анна.
– Каким образом? Они мне всего один день дали на раздумья! Если не соглашусь, отправят в режимный в Депо-Предшахтную…
Охранники начали собирать актеров, чтобы отвести на ночь в лагерь.
– Одного человека не хватает, – объявил конвоир.
Недосчитались шутника Вадима Ивановича. Куда пропал? Ведь только полчаса тому назад развлекал народ своими выдумками. Все разбрелись по театру в поисках актера.
– Похоже на побег, – нехорошим голосом сказал охранник. Ему грозило наказание из-за сбежавшего заключенного.
А у режиссера затряслись руки.
– На чердаке еще не посмотрели!
Половина чердака была обжитой, там прямо рядом с будкой осветителей размещалась театральная библиотека и стоял сундук с клавирами. Другая половина была темной. Охранники направились туда, освещая путь длинными американскими электрофонарями. За ними осторожно пробирались режиссер и актеры. Раздался пронзительный вскрик – это ленинградское сопрано наткнулась на Вадима Ивановича. Он повесился на перекинутой через стропила веревке.
А ведь после ареста Вильнера Анне казалось, что окружающий мрак не может стать гуще… Господи, если не хочешь уменьшить ношу, то добавь хотя бы сил.
Прошло два года. Пекарская уже стала вольняшкой, она до сих пор жила в Воркуте (теперь все говорили «в», а не «на Воркуте» – река никуда не делась, просто на ней вырос город). На правах старожила Анна принимала новеньких, предупреждала их о стукачах, как когда-то ее предупредила Ляля.
Прекрасная жена Сережи Иварсона умерла от желтухи, сгорев за несколько месяцев в режимном лагере. По крайней мере, ее похоронили по-людски. Не бросили, как других, прямо в грабарку [20]. Лошадь медленно тянула сани с серебряным гробом, в котором лежала оранжевая из-за убившей ее болезни Ляля. Гроб изготовили в театральной мастерской, обив серебряной бумагой. Зэчки и вольнонаемные провожали эти сани взглядами, им не разрешили идти за ними. Плакали даже матерые уголовницы.
– Наша красотуля, наша Лялечка…
По дороге из театра Пекарская зашла на почту. Отстояв в очереди, получила из окошка письмо от Раисы.
Год назад Максим устроил Раю проводницей поезда на северный маршрут, чтобы она привозила Пекарской посылки. И в этот раз Райка сообщила, что скоро привезет новую. Анна внимательно читала: папиросы, чай, мыло, сахар, кофе, лук, колбаса, чеснок. Все, что помог собрать для нее Максим, будет переправлено Вильнеру.
А Туся, как всегда, будет полушутя отчитываться, что получил «один посылок, два письмов». И будет благодарить за еду, а также за его заштопанные и отглаженные Анной теплые вещи. И просить, чтобы она из-за него не отрывала от себя последнее. Он не голодает и даже, чтобы не располнеть, совершает ежевечерние прогулки вдоль ограждения. Он в полном порядке!
Дома Анну встретил Ферапонт. Щенок радостно прихватил ее руку своими острыми молочными зубками и упал на спину, подставив круглое белое брюшко для поглаживаний. Его подарили Пекарской благодарные зрители. Из Ферапонта должна была вырасти сильная умная овчарка с чуткими ушами и темными внимательными глазами – такими же, как у его родителей, которые караулили зэков.
После освобождения Анна жила в «бараке талантов». Так называли общежитие вольнонаемных актеров. Барак был без теплого туалета, за водой таланты тоже ходили на улицу. Пекарская взяла ведерко и чайник и отправилась к колодцу, по пути кивая соседкам. Вернувшись в свою комнатку, поставила чайник на примус.
На стене висел ее большой портрет. Театральный художник изобразил актрису в блестящем бальном платье, отделанном серебристым гипюром. У них в театре весь актерский гардероб был превосходного качества. Благодаря Красному Кресту в руки волшебника Семы и его пошивочного цеха прямо из-за границы поступали лучшие шелка, бархат, парча.
Анна заварила чай, добавила туда сгущенки. Последнее письмо от Вильнера пришло неделю назад. Следующего еще ждать и ждать, а пока что можно было перечитывать знакомые скачущие строчки: «родная моя». Она знала все Тусины письма наизусть.
Анна в своей жизни получала немало мужских посланий. Ей писали и самые умные, и самые успешные. В лучших традициях девятнадцатого века они распускали мысли пышным павлиньим веером (даже Максим не мог удержаться) и вскоре начинали раздражать ее не меньше тех дураков, чьи записочки оказывались на гвозде в уборной мюзик-холла.
Пекарская никогда не баловала ни друзей, ни поклонников длинными ответами. Ее письма, если она кого-то удостаивала, бывали лаконичными. Она и наедине с собой, когда еще вела свой дневничок, не отличалась многословием.
Но в переписке с Вильнером все пошло иначе. Анна отправляла ему тесно исписанные страницы, где каждая строчка казалась кодом любви. А он отвечал так, что вызывал у нее сладкую боль. Конечно, ему помогал талант писателя. Она потом перебирала в памяти и гладила его слова, понимая, что это посланные ей золотые пули. Их можно будет вынуть только вместе с ее сердцем.
«Я постоянно чувствую спасительный поток твоего света, бесконечно любимая моя. Этот свет дает мне путь и надежду… Всю жизнь буду носить тебя на руках. И пусть наша Ведмедица будет тому свидетелем». Большая Медведица была их тайной наперсницей. Они договорились обращаться друг к другу, стоя в условленное время под ее звездным ковшом.
На будильнике было без пяти шесть. Торопливо надев пальто и накинув теплый платок, Анна вышла из общежития. Метель уже закончилась. На улице было темновато, но снег и полярное сияние добавляли света. Наверху шла бесшумная игра. Небесный купол то розовел, то алел, то фосфоресцировал бледно-зелеными красками. В этом пространстве небыли между светом и тьмой бесшумно пролетела белая сова – прекрасное создание, не знающее о своей красоте, с сильными крыльями ангела и желтыми глазами убийцы на круглой голове.
Пекарская остановилась, подняв лицо к небу. «Туся, у нас мороз минус сорок, ты украл мою идею – каждый вечер ровно в шесть ходить к Ведмедю. Ты читаешь мои мысли. Может, ты колдун?»
Рядом с Большой Медведицей дрожала, будто живая, Полярная звезда.
«Добрый вечер, голубчик, выстраданный мой. Ты сейчас ведь тоже смотришь на нашего Ведмедя. Каким-то образом все про тебя знаю… Если говорить ангельским языком – я постоянно летаю над тобой, протягиваю руки… Знаешь, что мы вчера играли? – „Роз-Мари“. Я была в твоем любимом красном платье. Вообще, все напоминало о тебе. Я даже вспомнила про чай, который ты мне заваривал в перерыве…
Тоскую по нашим поцелуям. По твоей ладони под моей головой. Тоскую с полным бесстыдством, с желанием отдать тебе больше, чем прежде».
На морозе ее лицо быстро потеряло чувствительность, кожа на щеках стала тугой, губы слиплись. Анна пошла было обратно, но остановилась и снова подняла глаза к небу. «Эх, Туся, – подумала она с укором. – Когда ты был вольный, я была в заключении. Теперь наоборот. И понесло тебя тогда в Москву».
Сверкающий занавес заколыхался над ее головой. Туманная полоса Млечного Пути, россыпь звезд, миллионы огоньков разных форм и цветов окрасили небо. Вселенная развернулась перед Анной, словно свиток, словно спрашивая: это совсем не то, что ты раньше думала о жизни, не правда ли?
Ах, если бы, если бы… Если бы ее все-таки сняли в той картине про цирк. Если бы не записалась она в тринадцатую бригаду… Тогда она не была бы сейчас здесь. Ездила бы с концертами по стране, возила бы с собой копию той цирковой пушки и отплясывала бы на ней до старости: гуд-бай, улетаю на Луну! – зарабатывая на гектарную дачу в Подмосковье, на антиквариаты, меха и платья. Но это была бы не ее история. А ей надо пройти до конца именно через свою – падать в бездну и снова, выучив или не выучив урок, хвататься за ниточку судьбы, подниматься навстречу спасению. Именно на этой земле.
В тот вечер в Инте Вильнер тоже стоял под звездным небом и смотрел на Большую Медведицу. Быстро продрогнув в наброшенном на плечи ватнике, он опустил глаза – вокруг были столбы, колючая проволока Минерального лагеря и занесенные по самые окна избушки, из их труб шел дым. Вильнер вздохнул и поспешил с крыльца обратно в тепло.