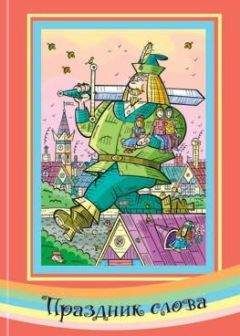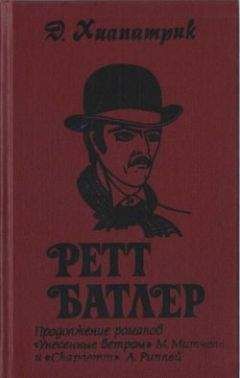Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Она и сама удивлялась. Такого с Анной прежде не бывало, чтобы другой человек накрывал ее мощно и неотвратимо, как десятиметровая волна. Вильнер мерещился ей повсюду. Его мир вдруг стал ее миром. Даже охранник кивнул Его кивком. И даже караульная овчарка с внимательными глазами была Им.
Ночью в бараке мерцала бледной желтой точкой электрическая лампочка. В ее свете то и дело мелькали крысы. Они, как всегда, сидели у печки или бегали по головам спящих. У крыс были имена. Пекарская лежала, с ужасом поглядывая на самую большую – бесхвостую рыжую Шкоду. Эта Шкода почему-то предпочитала Анну другим заключенным.
Прыгнув к ее изголовью, крыса попыталась забраться к ней под одеяло. Пекарская вздрогнула от отвращения, натянула одеяло себе на голову, плотно закуталась в него, как в кокон. Она всегда закрывала лицо на ночь, чтобы его не изуродовали крысы или зэчки.
Но вскоре Анна улыбалась и под одеялом. После разговора с Вильнером ничто не могло вырвать ее из блаженного потока. Она радостно теряла волю: впервые в своей жизни зрелая женщина не сможет решать, как сложатся ее отношения с мужчиной. «Кто меньше любит, тот и силен», – это больше не про нее.
Фотоателье Вильнера находилось в городе, он жил прямо на работе и был относительно свободным. В большой комнате, кроме стационарного фотоаппарата, стояли ширма, светлый и темный фон, переносной отсвечивающий экранчик и осветительные приборы. В задней маленькой комнате была спальня: матрас на чурках, табуретка. Там же помещался стол, всегда заваленный покоробившимися отбракованными снимками. Рядом был пропахший реактивами тайный чуланчик с красным фонарем, кюветами и увеличителем. Чтобы попасть туда, надо было толкнуть шкаф с химикатами. Он легко откатывался в сторону на своих шарикоподшипниках.
– Чаю сейчас заварю, – сказал Вильнер Анне.
Его шевелюра была растрепана, глаза светились ласковым светом, лицо раскраснелось. Он подобрал с пола свою домашнюю сатиновую толстовку, стал одеваться, но остановился. Нежно посмотрев на лежащую Анну, притянул ее к себе и поцеловал в волосы, задумчиво глядя поверх ее головы.
– Господи, и кто тебя такую придумал…
Она прижалась щекой к его мохнатой груди, закрыла глаза.
– Ты моя кыяночка… Аник, мы столько лет ходили по одним и тем же улицам и не встретились ни разу.
– Киев мне снится, – прошептала она, не открывая глаз.
– И мне… Царский сад, зеленые ступени к Днепру.
Анна улыбнулась.
– Помню сумасшедшего старика с Крещатика. У него мусор был в бороде… Приставал к прохожим, чтобы его стихи слушали. Я его боялась.
– Так это Баскин! Он меня как-то к стене прижал, читал свои вирши.
Анна приподняла голову.
– Туся, может, мы и встречались там. Скажи, ты во «Франсуа» бывал?
– Это польская кавярня на углу, где трамвай поворот делает? Конечно, бывал!
– Я любила их мороженое и шоколадные конфеты. Мы с подругами туда после экзаменов ходили. Только вряд ли бы ты меня тогда заметил. Подумаешь, глупенькая гимназистка прибежала с Фундуклеевской, хихикает…
– У судьбы уже тогда были планы на нас, Аник. Я, только на свет появился, уже был твоим.
Он еще крепче обнял ее, словно боясь потерять. Она доверчиво посмотрела в его глаза.
– Знаешь, если бы мне предсказали, что я буду счастлива на зоне, в Заполярье, в комнатке с красным фонарем и матрасом на чурках, я бы подняла тех предсказателей на смех…
Они помолчали, невольно вспоминая, с кем были прежде. У обоих было большое прошлое, но то, что происходило сейчас, казалось особенным.
– Ты не принесешь мне папиросы? Хотя не надо, я уже встаю.
Она оделась и, поправляя волосы и юбку, прошла в большую комнату. Вильнер подал ей начатую пачку, чиркнул спичкой. Затягиваясь папиросой, Анна увидела на стуле смятую страницу «Заполярной кочегарки». Она расправила газету.
– Ты только послушай: «Воркуту построили энтузиасты-комсомольцы»! Совести нет такое сочинять.
Пекарская перевела глаза на другую заметку.
– «В постановке „Собаки на сене“ великолепно выступила актриса, исполняющая роль Дианы…» А фамилии актрисы, конечно же, нет, она инкогнито! Зэков прославлять – ни-ни!
– Все и так знают, что это про тебя.
– Да я и не жалуюсь. Меня, кстати, наградили за Диану куском мяса, сахаром и крупой… Ох, Туся, вот только иногда так хочется бухнуться в ноги к Верочкиному мужу: «Батюшка гражданин начальник, не вели казнить, вели помиловать! Прикажи отгородить для меня кабинку в общем бараке. Крысы замучили».
Ей тоже хотелось заиметь собственный деревянный чуланчик с кроватью и столиком, как у прочих избранных. Там можно будет спать, не пряча свое лицо под тряпьем. Уют этим кабинкам придавали заставленные книгами полки и разрисованные лагерными художниками настенные ковры. Самым любимым сюжетом были «Три богатыря».
– Недавно репетировали до двух ночи, и я была счастлива, что не надо в барак к Шкоде возвращаться.
Они опять помолчали, пуская облачка дыма.
– Ты заметил, что начальство к нам ходит после работы, как в клуб? У каждого свое кресло в зале. Не знаю, с чем еще это сравнить…
– С помещичьей церковью. Или с крепостным театром.
– Точно! Вчера в первом ряду вместо веселого капитана уселся какой-то незнакомый военный. Я играю, а сама ловлю себя на мысли – непорядок!
– Зато на задних рядах вольняшки.
Анна улыбнулась.
– Стараюсь не замечать ту даму в трофейной ночнушке.
– Ну что делать, вот такие у нас неизбалованные женщины, – сказал Вильнер. – Страна воинов, не галантерейщиков.
Раздался громкий стук в дверь, и Пекарская побледнела. Вильнер поднес палец к губам, напоминая ей, что надо сидеть тихо – может, с той стороны двери не будут настаивать и уйдут. Но стук повторился.
– Именно в такие моменты осознаю, до чего же я сумасшедшая, что бегаю сюда к тебе… – в смятении прошептала Анна. – Сколько мне светит за это? Десять лет и общие работы?
Она не имела права уходить с зоны куда-либо, кроме театра.
Вильнер погладил ее руку, успокаивая.
– Это обычный посетитель.
Но Анна знала, что к нему часто захаживало и начальство – сфотографироваться, а заодно послушать истории про столичную жизнь.
Стук раздался снова.
– Вот упрямые, черти…
Он встал и крикнул через дверь:
– Минуточку, сейчас открою!
– Не судьба мне попить чаю.
Пекарская быстро поцеловала его и спряталась в лаборатории. Шкаф с химикатами заскользил на подшипниках, возвращаясь на свое место.
В фотоателье вошел мужчина.
– Я уж уходить собрался… Мне бы карточку сделать. Хочу своим послать.
– У меня процесс проявки шел, – извинился Вильнер, прислушиваясь к звукам из лаборатории. Там тихонько скрипнула дверь черного хода. – Никак нельзя мне было прерываться. А карточку, конечно, сделаем. Вы раздевайтесь, пожалуйста. Да-да, вон на тот гвоздик…
В тот день играли «Веселую вдову». Перед спектаклем Верочка собралась насыпать корм канарейке, но клетка оказалась пустой.
– Господи, улетела птичка наша! Клетку забыли закрыть. Плохая примета.
– Плохая, это если улетающие птицы снятся, – произнесла из клубов папиросного дыма ленинградское сопрано. – А в жизни… полетает и вернется в свою клетку. Больше здесь все равно некуда деваться.
Ее грустная улыбка говорила, что это относится не только к птичкам.
Во всех «фрачных» опереттах артистов наряжали в белые накрахмаленные сорочки. Эту метаморфозу с зэками и вольняшками совершал Сема. Он был не просто работником пошивочного цеха, а феей, которая превращала в сказку все, к чему ни прикасалась. Но «Веселая вдова» отличалась повышенной концентрацией аристократии и просто расфуфыренных мужчин. Белых сорочек хватало только на солистов, артистам хора Сема выдавал манишки и воротнички из ватманской бумаги. Хору не нравилась такая творческая предприимчивость костюмера, а он неизменно отвечал: