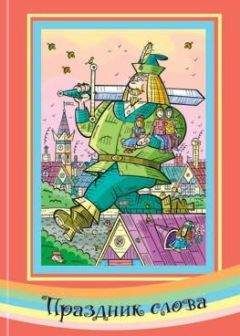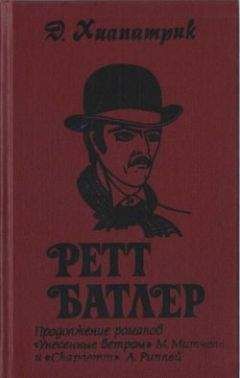Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Нервничая, она обращалась не только к офицерам, но и к вождю на стене, как будто ожидала от него одобрительного кивка.
Офицер обрадовался.
– Ну значит, надо снимать этого великого артиста с этапа! Придумаем ему какую-нибудь должность.
– А чего тут придумывать, – сказал другой начальник. – Будет заведовать самодеятельностью, если такой талантливый.
Полотов был осужден по той же 58-й статье. На допросах он громко возмущался, что и так пострадал от немцев, а теперь свои преступником называют. За строптивость ему дали на год больше, чем Пекарской. И вот они опять оказались вместе – пара неразлучников в одной клетке, два зэка из ТОЗэКа.
Но Полотов так и не успел создать на Печоре «невиданную» самодеятельность. Он даже не успел толком освоиться. Через две недели его и Пекарскую вызвали к начальству, и расстроенный капитан, чуть не плача, сообщил, что на обоих пришла заявка из Воркутлага.
Они стояли перед ним в том самом кабинете, под портретом вождя.
– Вот, требуют перевести вас для прохождения наказания в областной театр… – сказал капитан. – Не хочется отдавать вас, но ничего не поделаешь.
Он не подозревал, какие мощные рычаги были приведены в движение в Москве, чтобы эта заявка появилась на свет.
Едва они вышли во двор, Полотов воскликнул:
– Вава, мы становимся «придурками» высшего разряда!
– Да. Говорят, там настоящий театр.
– Как же это здорово, Вавка! Мы возвращаемся в искусство.
На радостях он захотел поцеловать ее. Пекарская вежливо отстранилась. Полотов поник, но ненадолго. Ликование переполняло его.
– В жизнь возвращаемся!
Что это по-прежнему будет не жизнь, а выживание, они поняли вскоре после прибытия на Воркуту.
Утром кипела черная метель. Ветер хлестал, наметая снежные шапки на бараки и вышки. Заключенные артисты, человек двадцать в ватниках с нашитыми на шапках, на груди и спинах номерами, вышли из лагеря. Лозунг над лагерными воротами был скрыт за густой снеговертью, но все и так помнили его наизусть: «Честный и самоотверженный труд – путь к досрочному освобождению».
По бокам, впереди и сзади колонны шли вохровцы с собаками. Шаг зэка в сторону считался побегом. Конвой стрелял без предупреждения. Заключенным и их конвоирам предстояло пройти почти два километра, задыхаясь от пурги. Теперь этот маршрут будет ежедневным и для Анны.
К концу пути метель утихла. Снежный занавес исчез, и Пекарская не поверила своим глазам, увидев величественное белое здание с колоннами. На его фасаде застыли гримасы театральных масок, над входом висел лозунг про план великих работ, намеченных партией. А рядом стояла оленья упряжка, в ней в своих меховых малицах и пимах сидели ненцы. Только коренные жители выглядели естественно в этом бескрайнем сугробе под названием тундра. Все остальное казалось миражом.
В театре было еще чуднее. Там курили и смеялись балерины в пачках и зэковских телогрейках. Режиссер в стеганых штанах, заправленных в грубые и высокие, почти до колен, валенки с отвернутыми голенищами повел Анну на сцену. Она окинула взглядом партер и ложи.
– Вот это размах! Как в Москве.
– Люстры хрустальной в две тонны не хватает, – то ли пошутил, то ли всерьез заметил режиссер.
Размах и вправду был столичный: сразу две труппы, музыкальная и драматическая, шестьсот спектаклей в год, плюс выездные концерты на шахтах и в поселках.
Режиссер с гордостью сказал:
– Так что вот так. Не зря нас называют жемчужиной Заполярья. Вы здесь отогреетесь… Ну что, Анна Георгиевна, начинаем работать?
Анна радостно закивала.
– Начинаем!
На репетиции Пекарская повязала голову платочком и работала, работала с полной отдачей, как ломовая лошадь. Потом пили чай. Круглолицая украинка Верочка, она исполняла здесь почти все меццовые арии, угощала коллег домашней едой и белым хлебом. Верочка была вольной, на Воркуту ее привез муж, начальник лагерного режима Чернега.
В клетке прыгала канарейка. Верочка и ей дала крошек. Птичка поклевала и благодарно запела, тряся хвостиком и клювом: «тю-тю-тю!» Ее радостные переливы и ярко-желтый окрас напоминали о солнечном лете, и Пекарской вдруг стало хорошо, словно она вернулась домой. Вдобавок в труппе оказались старые знакомые: клоун Сережа, косоглазая балерина Ляля. Жена Иварсона попала на Воркуту еще в годы войны.
Во время чаепития Анна то и дело трогала щеку.
– Опять десны беспокоят? – спросил Полотов.
– Да ничего страшного. Болезнь моряков восемнадцатого века, – отшутилась Анна, она не любила обсуждать свои болячки.
Сидевшая рядом Ляля усмехнулась.
– А в двадцатом веке сами знаете, чья болезнь…
– Это недостаток витаминов, – забеспокоилась Верочка. – Надо срочно принимать меры!
– Я свою цингу сырой картошкой за две недели вылечила, – сказала Ляля.
– Так я принесу завтра! – сразу пообещала Верочка. – Ой, что такое говорю. Зачем картошка? Ведь у меня лимон как раз созрел.
– У Верочки дома маленькая оранжерея, – сообщила Ляля Пекарской и Полотову. – Балует она нас. И не только лимонами.
– Да какая там оранжерея! Два деревца…
Верочка вздохнула.
– Настоящий сад в Чернигове остался. Мама мне пишет, весна в этом году у них ранняя. Скоро абрикос зацветет…
– Сильно скучаете по Украине, Вера?
Верочка кивнула. Все замолчали, вспоминая родные места. А Верочка подперла рукой пухлую щеку и негромко запела:
К ней присоединилась сидевшая за столом оперная певица, драматическое сопрано из Ленинграда.
Ничто не могло сравниться по нежности с украинской песней. Два прекрасных женских голоса заставили всех на время забыть про чай и недоеденное угощение. А Верочка, тряхнув головой, вдруг рассмеялась:
– Но если мужа переведут отсюда, то буду скучать по Воркуте! Думала ли я, что без образования и опыта смогу выступать на одной сцене с мастерами?
– У вас прирожденный талант, – сказала ей ленинградка. – А опыт дело наживное.
– Конечно, – благодарно согласилась Вера. – Ведь я лучшее образование здесь получаю!
К Пекарской подошел немолодой мужчина с тонким нервным лицом.
– Ваш поклонник еще по музыкальному холлу… – представился он. Его щека дернулась от тика. – Давно покорен.
Перед тем как отойти, мужчина поцеловал Анне руку.
– Надеюсь однажды вас изобразить.
– Он художник, известный портретист, – объяснила про него Ляля. – Попал в окружение под Вязьмой, в плену рисовал немецких офицеров.
Анна вздохнула:
– И это, конечно, были не карикатуры.
Мимо прошла улыбчивая актриса. Маленькая коротко стриженая голова и блестящие глаза придавали ей сходство с красивой змейкой. Пекарская ответила этой дружелюбной женщине улыбкой.
– Будьте с ней осторожны. Это наша стукачка, – брезгливо предупредила Ляля.
Анна с благодарностью запоминала все, что рассказывала жена Иварсона. В этом новом мире ей было бы трудно без проводника.
На дальнем конце стола замер над своим чаем дирижер. Он вроде бы и слушал общие разговоры, но не участвовал в них, поглощенный собственными мыслями. Про него Ляля сообщила, что он руководил симфоническим оркестром Мосгоркино.
– Попал сюда за то, что был в плену, хотя два раза оттуда бежал.
Справа от дирижера сидел лучший бас театра. Мастер крупных оперных форм что-то подсчитывал вместе с собеседниками, деловито загибая палец за пальцем.
– Это бывший солист всесоюзного радио, – сказала Ляля. – Помните по утрам – «Широка страна моя родная»? Теперь она точно широка для него.
Ляля и в лагере не избавилась от своей насмешливой манеры.
– За что он здесь? – спросила про солиста Анна.