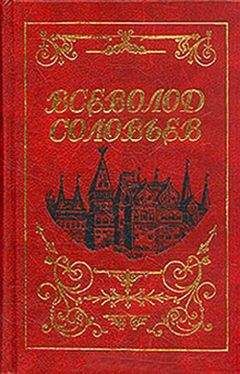Всеволод Соловьев - Царское посольство
Принял дож московитов в торжественной прощальной аудиенции и даже в платье парадное вырядился, а когда передавал свою ответную грамоту, то на печать указал и объяснил:
— Печать золотая. Всем прочим государям, королям и иным королевской крови князьям грамоты серебряной печатью запечатываю, а его царскому величеству золотую приложил в знак особливого почитания.
Золотая печать и таковые дуковые слова послам пришлись по нраву, и они в ответ отвесили пренизкие поклоны. Все было бы хорошо, да дук хоть хитрил, хоть и прикидывался всячески, а все же в выдаче казны — золотых и ефимков — наотрез отказал.
— Много дать, — сказал он, — республика венецейская ведет прежестокую войну с турками, и от этой многолетней и тяжкой войны казна ее истощилась, так что ссудить денег великому государю никоим образом невозможно.
Помялись послы на месте, вздохнули, переглянулись между собою.
— Ну, что ж, — не без печали вымолвил Алексей Прохорович, — так и доложим великому государю… На нет — и суда нет!
Откланялись, поблагодарили за ласковый прием и поехали к себе собираться в путь-дорогу.
— Как гора с плеч, — говорил, отдуваясь, Чемоданов, — по крайности все как след окончено, и дело свое мы справили по совести, честь русскую сохранили, в грязь лицом не ударили!
— Гм!.. гм!.. — вдруг прокряхтел Посников, да так многозначительно, что Алексей Прохорович вспыхнул и негодующе повел на него одним глазом.
— Ты это что ж? Ты это к чему кряхтишь-то?
— А там вот… ни к чему… першит что-то в горле, батюшка Алексей Прохорович, — ответил Посников.
А потом не удержался и прибавил:
— Так, так… в грязь лицом не ударили… держали себя с достоинством, как подобает нашему посольскому званию, от басурманских мерзостей отворачивались, пуще ж того — за немецкими бабами не бегали и тем себя не срамили…
Чемоданов похолодел даже.
— Слушай, Иван, — тихо, внушительно произнес он, — ежели ты еще раз такое слово скажешь, то вот провалиться мне на сем месте, ежели я тебе ребра не переломаю!
Посников позеленел и замолчал. Он пошел к себе с тем, чтобы укладываться; но едва успел он разложить вещи и раскрыть сундуки свои, как ему доложили, что пришел и его спрашивает монах здешний, стриженый да бритый, а с ним и поляк Таборовский, переводчик.
Этого переводчика Таборовского Посников уже знал, так как он во Флоренции пристал к посольству и даже был принят в помощь Александру. Но в Венеции, на следующий же день по приезде, поляк что-то не совсем почтительно сказал Алексею Прохоровичу, получил за это от посла подзатыльник и, обидясь, скрылся.
— Что еще там им надо, еретикам поганым? — пробурчал Посников, но все же пришедших принял. Стриженый да бритый монах оказался не кто иной, как Панчетти.
— Я пришел сообщить вам дело большой для вас важности, — через поляка переводчика, кое-как изъяснявшегося по-русски, начал он объяснять Посникову. — Ведь вы завтра собираетесь уезжать из Венеции в Московию?
— Да, собираемся.
— А ваш молодой товарищ и переводчик, господин Александр, остается здесь.
— Ну, что за вздор!.. Как может он оставаться… он едет вместе с нами.
— Его уж нет, он скрылся и не вернется к вам, он скрывается у одной молодой и прекрасной синьоры…
Посников даже подскочил на месте, разобрав это.
— Теперь еще рано, но если придет ночь и он не вернется, — продолжал Панчетти, — если завтра утром его не будет и вы увидите, что я говорю вам правду, то вы найдете его там, куда вот этот синьор проведет вас.
Он указал на Таборовского, который от себя уже прибавил:
— Да, я проведу вас, но за хлопоты в таком важном деле вы мне дадите два червонца.
— Разбойник! — воскликнул Посников. — Два червонца!.. Да весь-то ты и двух алтын не стоишь!..
Поляк не стал обижаться.
— Если дадите два червонца — я проведу, а то и уезжайте себе с Богом без пана Залесского… На всякий случай я поутру приду…
Он поклонился, поклонился за ним и Панчетти, и они ушли.
XV
На следующий день, уже перед закатом солнца, Панчетти громко стучался в запертую дверь гостиной синьоры Анжиолетты. Наконец дверь отворилась, его впустили, и он увидел перед собою синьору, рассерженную и негодующую.
— Вы, кажется, с ума сошли, Панчетти, — не дав ему произнести ни звука, начала она, — по какому праву вы так стучитесь?.. Ведь я сказала вам еще утром, чтобы вы не входили ко мне сегодня… Неужели я не могу быть свободной в своем доме? Или случилось что-нибудь важное? В таком случае говорите скорее.
— С этого вопроса вам следовало бы начать, синьора, — тоном тихого упрека произнес Панчетти, — конечно, случилось, если я решаюсь вас беспокоить и являться, несмотря на ваше запрещение. Здесь московитские послы… и они требуют выдачи синьора Александра.
Анжиолетта ничуть не испугалась и только рассердилась еще больше.
— Требуют выдачи?.. Вот вздор!.. И кто же это им сказал, что он здесь? Вы, что ли?
— Нет, я не говорил, конечно, да и не умею объясняться с ними, а что у них есть еще другой переводчик — я узнал только сейчас, когда он заговорил со мною… Не знаю — кто мог им сказать, но они уверены, что он здесь, и требуют, чтобы я их провел к нему.
— Так и проведите их к нему, синьор Панчетти, — спокойно сказала она.
— Где же он? В какой части палаццо? Я не знаю.
— Его в моем палаццо нет, и где он — я тоже не знаю… Неужели вы думаете, что я стану прятать у себя кого-нибудь? Скажите этим людям, чтобы они сейчас же уходили и не смели меня беспокоить. Я их не знаю и знать не хочу.
— Подумайте, синьора, ведь я говорю единственно из преданности вам, из желания избавить вас от очень больших неприятностей, быть может, от серьезной беды. Это не простые люди… ведь это послы иностранного государства, с которым республика находится в дружбе. Дож никак не может оставить их жалобу без последствий… Если они не уведут с собою синьора Александра, то немедля отправятся к дожу с жалобой, и он поневоле должен будет приказать сделать строгий обыск в палаццо Капелло. Подумайте же, какое это произведет на всех впечатление! У вас, синьора, столько завистниц, у вас столько врагов… что сделают с вашей репутацией!
— О моей репутации я вовсе не прошу заботиться — это уж мое дело, — сказала Анжиолетта все с тем же спокойствием, — что же касается обыска: неужели вы не могли догадаться, что мысль о нем должна была прийти мне в голову!.. Пусть перероют весь палаццо — и все же не найдут того, кого ищут… и дож должен будет предо мною извиняться.
— Так где же он, где?
— Я сама этого не знаю, а если бы и знала, то, конечно, не сказала бы ни вам, ни дожу, никому на свете.
Панчетти отлично видел, что она знает, где скрывается Александр, но еще лучше понимал, что она этого ему не скажет.
— Это последнее ваше слово, синьора?
— Да, синьор, а потому, пожалуйста, меня не задерживайте и не тревожьте всяким вздором. Скажите этим варварам, что я советую им успокоиться и не требовать осмотра всего палаццо, потому что они никого здесь не найдут и я буду на них жаловаться. Разве Анжиолетта Капелло должна выносить такой оскорбление?
Она повернулась, твердой, спокойной поступью прошла в соседнюю комнату и заперла за собою на ключ дверь.
Панчетти сильно задумался. Он видел, что его расчет оказывался неверным. Он мог выдать Александра послам только в том случае, если бы сам знал, где именно он находится, а знать это мог только в случае полного к нему доверия синьоры. Между тем она вовремя догадалась, очевидно, на основании действий Нино, что и Панчетти, тайно в нее влюбленному, не следует доверяться. Он, конечно, не способен поступить, как поступил Нино, он не подговорит «браво» убить Александра, но придумает что-нибудь другое, менее для него ответственное, даже совсем не ответственное — и все же достигающее цели.
Делать нечего, пришлось аббату идти к послам и объяснить им, что беглеца найти трудно, что неизвестно — где он находится.
— Как же ты, еретик, говорил, что он здесь? — завопил Чемоданов.
— Может быть, и здесь, да если не выходит и его не выдают, так нечего делать.
— Обыскать надо, вот что! — решил Посников. Поляк перевел это аббату.
— Об обыске нечего и думать, — сказал Панчетти и передал в точности слова синьоры Капелло, объяснив, что она одна из знатнейших патрицианок и с нею надо обращаться осторожно.
Послы из себя вышли.
— К дуку, к дуку… прошение!.. требование! — задыхался Чемоданов.
— А что, коли он и впрямь того? — вдруг проговорил Посников.
— Чего того?
— А того, что, продав душу свою дьяволу и увлекаемый врагом рода человеческого, взял да и утопился!
— Ну, что ты, что ты!.. Ведь вот же еретик как по книге все рассказал…
— Да ведь он говорил, что малый-то здесь, а теперь, сам видишь, виляет: может, говорит, и здесь, а может, и нет его, и не ведаю, говорит, где он… Да ты на рожу-то его взгляни… у него и рожа другая… и сдается мне… чур меня! Чур! Наше место свято!