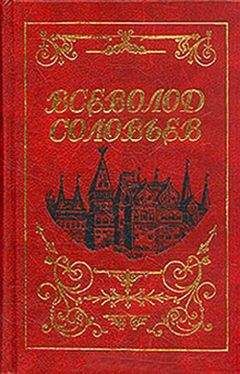Всеволод Соловьев - Царское посольство
Чемоданов приосанился и начал говорить об отношениях Русского государства к Польше, о многих великих победах, одержанных русскими войсками, о взятии многих польских городов.
Дож отвечал, что все это ему известно, что, кроме того, он знает, с какою любовью, почитанием и надеждой относятся к Московии христианские народы, находящиеся в пределах Балканского полуострова и страдающие от турок. Поэтому-то он и обращается к могучему царю Московии в надежде, что он поможет Венецианской республике в борьбе с неверными и пошлет против них полчища казаков.
— Великий государь всегда о том тщание имеет, чтобы православное христианство из басурманских рук высвободилось, — отвечал Алексей Прохорович, — только теперь его царскому величеству начать этого дела нельзя, потому что он пошел на неприятеля своего, а как с Божиею помощью с неприятелем управится, то заключит договор с вами, как стоять на общего христианского неприятеля.
На это дож сказал о своем желании, чтобы его уведомили, когда будет окончена польская война.
— Скажи ему, что против такого его желания великий государь ничего иметь не может и что мы обещаем уведомить его немедленно вслед за окончанием войны, — приказал Чемоданов Александру.
— Эй, пора ведь и к большему делу приступать, — обратился он к Посникову, — а жутко!.. Ну, как и впрямь откажет?
— Что ж ты тут поделаешь! — ответил Посников. — С нас за тот отказ взыскать не могут, мы тут непричинны, а за чем посланы, то дело и надо справить.
— Вестимо так!
Но все же Алексей Прохорович никак не мог решиться. Он навел речь о разрыве Польши со Швецией, об отношениях России к Швеции, о худых действиях короля Густава и о всех его великих неправдах. Наконец он собрался с духом и заключил таким образом:
— И, видя таковые неправды короля шведского, его царское величество злого его начинания терпеть не станет, — так вашему княжеству и честным владетелям (он и Посников низко поклонились при этом дожу и членам совета) к царскому величеству любовь свою и доброхотство показать, прислать на помощь ратным людям взаймы золотых или ефимков, сколько можно, и прислать бы поскорее.
У Александра голос дрожал, когда он переводил слова эти. Он ясно видел на лице дожа неудовольствие.
— Мы сейчас не можем дать вам никакого ответа, — холодно ответил дож, — все сказанное вами будет записано, обсуждено, и тогда вы получите ответ наш…
На этом и кончилась аудиенция. Хотя они и не получили еще отказа, но уже по многим неуловимым признакам каждый из них чувствовал, что ничего хорошего нельзя предвидеть.
— Только как же это? Неужто дук осмелится огорчить и обидеть великого государя отказом? — спрашивал Алексей Прохорович Посникова.
— А мы-то нечто не отказали ему? — ответил Иван Иванович. — Он казаков на турок просит, а мы: постой, мол, подожди, дай войну кончить…
Чемоданов совсем повесил голову.
Через два дня явился Вимина, и из первых же слов его оказалось, что Посников прав: выходило, коли как следует раскусить слова эти, что дук и его советники не понимают, каким образом царь просит денег поскорее, а помощь свою в борьбе против Турции откладывает.
— За то ли государь ваш просит у республики денег, что хочет помочь ей в войне с турками? — прямо спросил наконец Вимина.
Алексей Прохорович так весь и вспыхнул и, строго глядя на Вимину, проговорил в волнении:
— Ты говоришь непристойные слова, простые! Великий государь наш, если изволит послать рать свою на турка, то пошлет для избавления христиан, а не из-за денег. По чьему указу говоришь ты эти бездельные слова: приказал тебе это князь или владетели?
Александр, сам взволнованный и негодующий, перевел эти слова, нисколько не смягчая их тона. Вимина растерялся и, помолчав немного, ответил:
— Я это сказал от себя.
— Ну так впредь ни от себя, да и ни от кого таких непристойных слов не говори, не то мы с тобой вовсе говорить не станем да и на порог тебя к себе не пустим! — произнес Алексей Прохорович и величественно вышел, даже не кивнув головой Вимине.
XII
— Говори, говори мне все, ничего не скрывай от меня, мой дорогой Александр!.. Разве ты можешь, разве смеешь что-нибудь от меня скрыть? Какая у тебя неприятность?.. Что случилось?.. Отчего у тебя сегодня такое печальное лицо, отчего ты так побледнел и прекрасные глаза твои будто в тумане?
Ее глаза не были в тумане — они сияли, как два маленьких солнца, и в то же время в них скрывалась неизведанная, таинственная глубина моря. Она не побледнела — на щеках ее горел румянец страсти. Лицо ее не стало печальным, даже несмотря на тревогу, вызванную смутившим ее унылым видом дорогого ей северного варвара.
— Александр! Ты молчишь… ты не хочешь быть откровенным со мною!
— Что же мне сказать тебе, сердце мое, Анжиолетта! — воскликнул он, и в голосе его прозвучала искренняя тоска. — Со мной не случилось ничего дурного… Все благополучно… С тех пор как по твоим стараниям сбиры схватили Нино, а этот убийца, которого я сбросил с моста, утонул, меня никто не преследует… Правда, эти последние дни мне приходится много работать, писать, но я привык к этой работе, и только мысли о тебе мешают моему труду… Все благополучно.
— Отчего же ты бледен, отчего ты грустен?
— Мы были вчера на аудиенции у дожа… Еще одна прощальная аудиенция… еще неделя, полторы — и мы уезжаем…
— Куда, куда вы уезжаете?
Она глядела с таким изумлением, она не понимала.
— Как куда?.. Домой, в Москву возвращаемся… Я должен навсегда покинуть Венецию, навсегда разлучиться с тобою… И ты хочешь, чтобы я был весел?
Она взяла его за руки, склонила к нему свое прелестное лицо — и вдруг засмеялась.
— Какой вздор! Ты шутишь!.. Разве ты можешь уехать?
— Разве я могу остаться? Если бы это было возможно, я не задумался бы ни на минуту… Я всю ночь не спал сегодня и все думал, все думал… Слушай, дож просит, чтобы наш царь известил его, когда будет у нас окончена война с Польшей. Когда мы вернемся в Москву — я буду всех умолять, я сделаю все, чтобы с известием об окончании войны послали меня. Мне кажется… я надеюсь, что это удастся… Кого же пошлют? Я знаю и латинский, а теперь и ваш язык, путешествие мне не новость. Венеция знакома, даже сам дож меня теперь знает… Конечно, пошлют меня, это почти наверное… и вот, может быть, меньше, чем через год, не больше, чем через полтора года, снова увижусь с тобою!.. Видишь, я солгал, говоря, что навсегда разлучаюсь с тобой… Мы увидимся… Но год! Целый год!
— Кто товорит о годе? Молчи, не смей так шутить! Не смей так шутить! — повторяла она, зажимая ему рот маленькой, надушенной, сверкавшей бриллиантами рукою. — Не год, не полгода, не месяц, не неделя! Я не могу прожить без тебя и дня, а ты говоришь о каком-то годе! Ты говоришь об отъезде… куда? В Москву ужасную, на край света, к белым медведям? Да ведь если ты уедешь отсюда — ты сто раз утонешь, морские разбойники тысячу раз убьют тебя… а там, там или медведь тебя растерзает, или какой-нибудь злой «бояр» оклевещет тебя перед твоим царем и тебя посадят в тюрьму, тебя казнят! Как же ты вернешься?.. А я, ведь я каждый час, каждую минуту буду думать, что тебя, может быть, уже нет на свете!.. Разве так можно жить? И разве я могу так прожить не только год, но один месяц? Я зачахну и умру в две недели… Сам видишь, какие глупые ты придумал шутки! Что я тебе сделала злого, что ты со мной так шутишь?
На ее чудных глазах блеснули слезы.
Но что же мог он сказать ей, чем мог ее успокоить? Хоть он и сам с каждым днем становился все более и более безумным от страсти к ней, но все же твердо знал, что возвращение его в Москву вместе с посольством неизбежно. Как это будет, как переживет он этот ужасный, с такой злобной быстротой надвигающийся день, он не знал. От полного отчаяния его спасали только мечты о возможности возвращения, и он жил этой надеждой со вчерашнего дня. А до вчерашнего дня, до аудиенции у дожа, он жил только настоящим и даже совсем не думал об отъезде, забыл о нем и вспомнил только, когда Алексей Прохорович, садясь в гондолу на Пьяцетте, воскликнул:
— Ну, как бы там ни было, ладно либо худо, а теперича скоро и восвояси!..
— Нет, ты никуда не уедешь, ты останешься со мною! — сказала Анжиолетта, внезапно успокоившись.
В ее голосе была твердая решимость, уверенность.
— Да, ты останешься со мною, — продолжала она, — твои старики уедут, и все московиты уедут с ними, а ты — пропадешь. Тебя будут искать и нигде не найдут… я хорошо тебя спрячу!.. Поищут, поищут — и уедут в Москву, скажут царю, что Александр утонул в Венеции. Ты умер… тебя нет на свете… А здесь… здесь явится другой Александр, не московит, а итальянец или испанец… Этой большой, широкой бороды не будет…
Она гладила его бороду и показывала, улыбаясь ему и сияя на него глазами, что она сделает с его бородою.