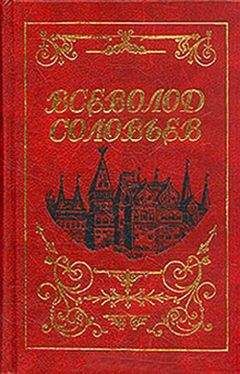Всеволод Соловьев - Царское посольство
Здесь было почти совсем темно, но Анжиолетта зажгла огонь, и вот свет двух восковых свечей позволил Александру оглядеться. Он в очень богато убранной комнате. Пол, стены, даже потолок — все увешано коврами. Великолепные зеркала уничтожают мрачность этой подземной комнаты.
Анжиолетта сейчас же стала приводить все в порядок.
— Я давно не была здесь, — говорила она, — тут пыльно и холодно… да что же делать!.. Но прежде всего скажи: ты на меня не сердишься за мою глупую шутку?..
Она подошла к нему, положила ему свои руки на плечи и глядела ему в глаза и улыбалась. Разве мог он на нее сердиться!
— Да, конечно, надо быть осторожным… Когда они уедут, можно будет действовать смелее… пока же тебе придется посидеть здесь. Здесь-то уж тебя никто не отыщет, и я не боюсь никакого обыска — пусть хоть все сбиры Венеции три дня обыскивают палаццо!.. Теперь я поднимусь, принесу тебе ужин, вино и теплые одеяла для ночи… Только долго с тобой не останусь сетодня… Я проведу вечер у себя в гостиной, даже призову Панчетти и заставлю его читать мне. Пусть приходят твои старики со сбирами, пусть приходит сам дож и с ним вся Венеция.
Она стала на маленькую железную платформу, на которой они сюда спустились, прижала в стене большую круглую пуговицу и стала медленно подниматься к потолку, посылая Александру воздушные поцелуи. По всему видно, что она отлично знакома со всем этим хитрым механизмом и что нередко сюда спускалась и отсюда поднималась.
Ее нет, в потолке, где она скрылась, только широкое отверстие, откуда брезжит слабый свет. Александр один, среди глубокой тишины, не нарушаемой никаким звуком. Он упал на низенький мягкий диван и погрузился в полное бездумье, почти в забытье, пока она не спустилась к нему. Она приготовила ему постель, поставила на стол ужин и крепко обняла его.
— Прощай, прощай, не смею оставаться здесь с тобою ни одной лишней минуты — мало ли что может там случиться. Может быть, уж и теперь стучат в мою дверь… что делать! Потерпим два дня, а потом — вся жизнь перед нами!.. Но что же с тобой? Отчего… отчего ты так холодно меня целуешь?
— Спеши, спеши… ведь ты сама говоришь: мало ли что там может случиться…
Она исчезла — и он опять один. Он не дотронулся до ужина, лег, закутался теплым одеялом и хотел заснуть. Он чувствовал себя утомленным, и тяжесть с каждой минутой все больше и больше начинала давить его сердце.
Сон не приходил, мысли метались во все стороны, ни на чем не останавливаясь. Становилось невыносимо тяжело, тоска так и томила.
И стало ему казаться, что все это с ним оттого, что он позабыл что-то. Стоит ему только вспомнить это позабытое — и тоска пройдет, станет легко на сердце. Но он никак не может вспомнить. Вот как будто что-то подходит — еще немного, еще одно усилие — и оно вспомнится… А между тем нет — не вспоминается, никак не вспоминается — да и только!..
Наконец он уснул. Ему приснилось, будто он один, в каменном гробу, который со всех сторон плотно его облегает. Страшно холодно среди этих камней, и душно, и тяжко. Ужас охватывает его, он задыхается — и не может шевельнуться. Вдруг откуда-то издали доносится тихий звон. Звон этот все ближе, все яснее. Он узнает его — это звонят на Москве колокола кремлевские.
Небывалая сила наполнила его, он рванулся, рассыпались вокруг него камни, поднялся он и видит: светло… он в церкви, сияют и теплятся восковые свечи и лампады… Кто же это?.. Кто это склонился в молитве перед образом Спаса?… И отчего так вдруг замерло и забилось его сердце?.. Он спешит к образу Спаса и падает на колени… и видит — рядом с ним…
«Настя!» — радостным кликом вырывается из груди его. Она повернулась к нему… Это она, она! Ему светло, ему чудно, всю его душу наполняет невыразимое счастье, такое блаженство, какое только во сне может пригрезиться человеку…
Он проснулся. Тоски нет, тяжесть спала… Он вспомнил… «Настя! Настя!» — услышали безмолвные, холодные, увешанные коврами стены венецианского подземелья.
XVIII
Царское посольство в полном своем составе, с громадными тюками товаров и всякой поклажи медленно подвигается на север. И вместе с «московитами», будто сопровождая их, стремится к тому же северу благоухающая весна. Чудное время и чудная природа, поражающая разнообразием своих картин, причудливой пестротою своих красок. Какие теплые, сияющие, смеющиеся дни, какие волшебные, манящие ночи!..
На севере еще снег лежит, оттуда еще морозы трескучие уходить не хотят, до весны еще там далеко, и только солнце мало-помалу замешкиваться на небе начинает, а здесь уж в густой зелени все деревья, и цветут невиданные цветы, и распевают неслыханные птицы. Чудное время, чудный край!..
Ну как тут не поддаться очарованию, как не продлить остановок, как не насладиться всеми этими новыми впечатлениями, которые уж не повторятся в жизни! А между тем «московиты» спешат все вперед да вперед, останавливаются только по необходимости. Алексей Прохорович то и дело всех торопит, и кричит, и жалуется на каждую остановку. И все посольские люди, от первого до последнего, понимают его нетерпение и разделяют его чувства.
«Чего ж тут и впрямь прохлаждаться-то! Дело сделано, пройдены всякие мытарства, а теперь скорее бы домой… Дай-то, Господи, благополучно добраться!» — вот общая мысль, и страстное желание попасть поскорее в русские пределы так велико, тоска по родному дому так неотвязна, что где уж тут наслаждаться диковинками заморскими. Самые блистательные вешние дни, самые душистые южные ночи проходят незамеченными для «северных варваров», мечтающих о белом снеге, крепком морозе да горячих лежанках.
— Ишь ты, время-то как идет!.. Святая скоро! — говорит со вздохом Алексей Прохорович. — Вот… и Рождества Христова не видели, да и Пасху не придется увидеть… целый год из жизни вон!.. Ну уж не приведи Господи еще такого года!..
И все посольские люди, от первого до последнего, готовы из глубины души повторять за своим набольшим: «Не приведи Господи еще такого года!»
Готов был повторять это и Александр. Как Александр? Да разве он возвращается в Москву вместе с посольством? Конечно, а то как же иначе? «Быль молодцу не укор» — и уж особенно не укор, если эта быль является в образе такой прелестной соблазнительной женщины, как синьора Анжиолетта Капелло. Разумеется, Иван Иванович Посников имел все основания глубоко возмущаться и порицать Александра. Сам почтенный, серьезный дьяк никогда не увлекся бы никакой синьорой, во-первых, потому, что даже и в юные годы сердце его всегда очень спокойно билось, а красота для него казалась совершенно излишней роскошью; во-вторых, и самое главное, потому, что никакая синьора ни за что не увлеклась бы им и не стала бы увлекать его. Добродетель, когда она является победительницей в человеке, сердце которого от юности «мнози борят страсти», — есть истинная добродетель, но мы знаем обоего пола особ, носящихся со своею добродетелью, но в действительности не побежденных только потому, что никто и никогда не хотел с ними бороться.
Соблазн, представший пред учеником андреевских монахов в образе венецианской красавицы, был так велик, а сердце горячего, полного жизни юноши — такой горючий материал, что в подобных обстоятельствах оно непременно должно было вспыхнуть. Оно и вспыхнуло жарким пламенем, но так как в нем таилось зерно иного, глубокого и животворного чувства, зерно крепкое, подобное алмазу и никакого огня не боящееся, то огонь страсти и не мог его уничтожить. Пришла минута — и позабытое имя зазвучало в сердце. А раз оно зазвучало среди такого пламени — это был клич победы.
Когда утром Анжиолетта сошла в подземелье, Александр уже оказался совсем иным человеком. Туман страсти, опутавший его, рассеялся. Бессильный и безвольный еще несколько часов перед тем, теперь он владел собою, к нему вернулись его твердость, решительность и смелость.
Он вовсе не возненавидел Анжиолетту, страстное чувство влекло его к ней по-прежнему, и ее присутствие наполняло его трепетом. Ему было тяжело расставаться с нею, и как он знал теперь — расставаться навсегда. Но то, на что он было решился, казалось ему таким позором и ужасом, что он был готов на все, лишь бы избавиться от этого ужаса и позора.
Надо скорее бежать отсюда, бежать, пока еще не поздно. Но ведь она не выпустит! Да, он отлично понимал, что стоит ему сказать ей правду — и она силой удержит его. Поэтому, так как иначе было нельзя, он, с присущей ему смелостью, решился обмануть ее… И он обманул, обманул так ловко, будто учился этому искусству у Нино или Панчетти.
Он весь был полон теперь только одним — чувством самосохранения; это была отчаянная самозащита, борьба не на живот, а на смерть, и среди такой борьбы не оставалось места ни жалости, ни уступкам. Он стал жесток и беспощаден, потому что инстинктом чувствовал, что стоит ему подумать лишь на мгновение о своей жалости, стоит на миг один пожалеть ее, прелестную свою тюремщицу, — и он погиб, погиб безвозвратно.