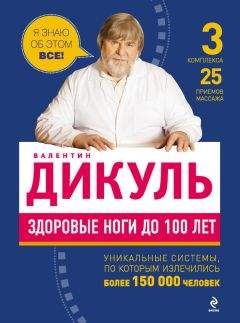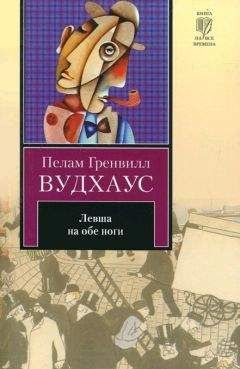Ведуньи из Житковой - Тучкова Катержина
Тем временем в комнате раздался задушевный голос певчего. Тишину пронзала песнь о страстях Иисуса Христа и муках, которые ожидают грешников в аду. Под это песнопение обыкновенно начинали причитать. Но на сей раз в комнате царило пугающее безмолвие.
Допев, Махала умолк и вопросительно посмотрел на Дору, но встретил ледяной взгляд и не стал дожидаться ее причитаний. Он опустил веки, сделал глубокий вдох, а когда его глаза опять открылись, всем в комнате было уже ясно, что сейчас его устами с ними будет говорить сам Матиаш Идее.
Я, несчастный Идее Матиаш, приветствую тут всех вас. Нет слов, мои милые, как я рад, что вы про меня не забыли и пришли со мной проститься и проводить меня, потому как не ведаю я, что там впереди, и мне малость боязно. Страшусь я того, что меня ждет, когда я уйду отсюда, отпущение или мука. Ибо Господь Бог небесный знает, что я не раз поступал плохо, но я верю, что добрый Иисус меня простит. Ведь вот даже святой Петр ошибся — и был прощен. И если сам Господь Бог прощает грешников, то и вы, люди, простите. Я грешил, и вы грешили, все мы одинаковые…
Дора услышала за своей спиной тихий всхлип, за которым последовали другие. Тетки-плакальщицы, подкрепившись самогоном, что ходил по рядам, приступили к своим обязанностям независимо от Доры.
Потому вас прошу перво-наперво ради Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, ради пяти ран Христовых, чтобы то, чем я кого из вас когда прогневал, вы мне милостиво простили.
Вначале я взываю к тому свету и сперва прошу прощения у покойной жены моей Ирены за тот мой грех, которым я сократил тебе жизнь. Тысячекратно прошу твоего прощения. Поверь, жена моя, то, что я с тобой сделал, я и с собой сделал. И я всю жизнь кручинился над тем, что сотворил, и корил себя до последнего вздоха. Прости меня, прошу, и знай, что я часто молился о том, чтобы ты хотя бы там, во Христе, обрела покой и лучшую долю, нежели я уготовил тебе на земле.
Дальше обращаюсь к тебе, дорогая моя первородная дочь. Я души в тебе не чаял и при этом причинил тебе страшное зло, когда лишил тебя мамы. Поверь, это терзало меня до конца моих дней. Если можешь, прости мне мою вину. Я был человек с множеством пороков, но я любил тебя, Дорличка. Прости мне еще, что я испортил тебе детство, бросил тебя расти среди чужих и взвалил на твои плечи заботы о брате. Прости меня и, хоть от меня не укрылось, что ты мужественно несешь свой крест, извлеки урок из моих ошибок.
Сделай так и ты, сынок мой Якуб, если можешь. Обращаюсь к тебе с той же просьбой, прости меня за то, что лишил тебя мамы и никогда тобой не занимался, что я был плохим отцом. Поверь, что я и сам страдал от этого, особенно в последние годы, когда не было ни минуты, чтобы я не угрызался всем тем, что причинил тебе и Доре. Эти-то угрызения и подтолкнули меня к поступку, недостойному христианина, когда я наложил на себя руки. Но лучше мне будет гореть в адском огне, чем видеть ваш немой укор. Потому я еще раз прошу вас обоих: простите меня.
Сзади кто-то постучал Доре по плечу донышком бутылки, и она сделала еще один глоток. Самогон уже не так обжигал ей рот, и в горле разлилось приятное тепло.
Нытье певчего ее нисколько не тронуло; она вообще сильно сомневалась, что последние помыслы отца были именно такие, поэтому о том, чтобы простить его, и речи быть не могло. Хоть бы весь этот спектакль уже кончился, думала она, жалея, что не настояла на простых похоронах, без прощания, певчего и плакальщиц. А ведь была бы в своем праве!
Во второй раз я прошу вас ради Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, ради пяти ран Христовых, чтобы то, чем я кого из вас когда прогневал, вы мне простили. Обращаюсь к тебе, Юро Ковачин, у которого я поджег дом. Был я горячая голова и много пил. Не надо нам было в корчме так часто ссориться, как будто наши ссоры что-то значили. Вы нам тогда отомстили, навели на нашу корову порчу, и она сдохла. Так прости ты меня, как и я тебя прощаю.
И к тебе обращаюсь, Яно Горчик, с которым я годами не разговаривал из-за межи в Копрвазах. И надо нам это было, скажи?! И ты на суды потратился, и я тоже. Стоило оно того? Вскорости лежать нам друг с другом рядом, а эту пару метров все равно уже никто не обрабатывает.
И у тебя, Марина Пеиухачка, должен я просить прощения. Молодой был — обещал взять тебя в жены, но не сделал этого. Позарился на имущество, что было у моей покойницы, да не принесло оно нам счастья — вдобавок половину его я пропил. К чему человеку имущество? Ни к чему. Только поздно я все это понял и не успел попроситъутебяпрощения. Такты, стало быть, не серчай и прости меня.
Напоследок извиняюсь перед всеми вами, кому я причинил зло, со всеми прощаюсь, всего доброго вам желаю и прошу прочитать за меня три раза «Отче наш».
Всхлипывающие плакальщицы разом стихли, и комната огласилась молитвой.
Дора украдкой наблюдала за соседями, истово шепчущими «Отче наш». Ее взгляд скользил по головам, склоненным над молитвенно сжатыми руками, пока не дошел до Янигены, которая пристально смотрела на нее из угла, да так, что Дора испугалась. «В чем дело?» — промелькнуло у нее в голове. Только когда Янигена кивнула в сторону Якубека, она поняла. Между его ладонями, сложенными на коленях, стояла бутылка самогона, опорожненная почти на треть. Видно, кто-то из добрых дяденек подсунул ему бутылку, чтобы бедняга тоже глотнул. И Якубек глотнул — и теперь непрестанно раскачивался на стуле взад-вперед. Дора еле успела подхватить его, чтобы он не свалился на пол, и так резко вырвала бутылку у него из рук, что из узкого горлышка пролилось несколько капель. Якубек ей только вяло улыбнулся.
Третий «Отче наш» был дочитан.
— Что ж, соседи, теперь вы тут посидите, сколь душе угодно, поешьте, выпейте да помяните добром покойного Матиаша Идеса. А утром в десять нас ждет священник.
Миссия певчего была окончена. Утомленный, он опустился на скамью прямо напротив Доры, грустно улыбаясь ей поверх гроба. Комнату наполнил гул, люди менялись местами, в толпе ходили тарелки с едой и все новые и новые бутылки самогона. Плакальщицы уселись вокруг головы покойного и затянули заупокойные песнопения. Матери сгоняли детей с печи и прощались с соседями.
— Значит, утром на кладбище!
— Оставайтесь с Богом, Дорличка, Якубек!
— Вы уж оплачьте его тут, как положено, — говорили они, многозначительно поднимая брови.
Дора вздрогнула. Неужели до них еще не дошло? Она никого оплакивать не намерена. Утром на похоронах все эти тетки будут перешептываться, что она, мол, ни слезинки не проронила. Пусть их.
Она обвела озабоченным взглядом комнату и наконец увидела Якубека. Тот отполз от стола с гробом в угол и съежился там, пьяно икая и заикаясь, когда кто-то подходил к нему, чтобы попрощаться. Люди гладили его по светлой головке, а он радостно хватал их за руки; было заметно, что он не понимает, почему соседи, обычно его избегавшие, так поступают.
Дора взяла у Янигены, протиснувшейся к ней сквозь толпу, бутылку самогона и сделала очередной глоток.
Гомон соседей, которые явно собрались провести тут ночь, перемежался с песнями плакальщиц, звучавшими все быстрее. Бутылки самогона перемещались по кругу, пирогов на тарелках убавлялось, то тут, то там раздавался смех. На гроб с новопреставленным уже никто не обращал внимания — как будто он уснул, а остальные решили его не будить.
Последнее, что она запомнила, перед тем как Янигена вывела ее наружу, был припев чардаша в исполнении подвыпивших плакальщиц и Баглар, который попытался закружиться посреди комнаты в танце с Тихачкой. При этом они топтали ногами тех, кто, как и Яку-бек, заснул на полу между грудой пустых бутылок и разбитыми тарелками.