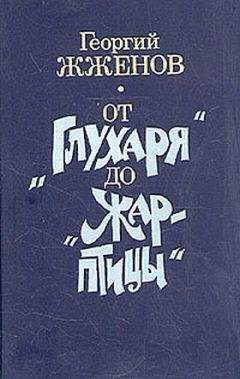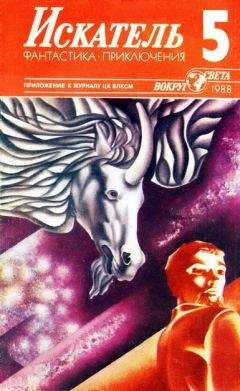Русская миссия Антонио Поссевино - Федоров Михаил Иванович
— А если его не будет, то и докладывать некому.
— Не торопись, брат. Старайся не совершать поступков, которые невозможно повернуть вспять. А я вижу, что ты хочешь совершить такой поступок.
— Эх! — Поплер в сердцах ударил ладонью по передней луке. — Знаешь, брат, мне один умный человек рассказывал про римского полководца Цезаря. Так тот тоже любил прощать своих врагов. Прощал он, прощал, а потом один такой прощённый его зарезал. А Цезарь даже подумать не мог, что человек, которому он сделал благое дело, будет таким подлым. Нет, лучше таких людей держаться подальше, а лучше…
Поплер замолчал, поглядывая на Истому. Некоторое время они ехали молча.
— Ну что, согласен со мной? — не выдержав молчания, спросил Поплер.
Истома, погружённый в свои мысли, лишь шмыгнул носом. Поплер, истолковав его молчание по-своему, тронул бока коня шпорами и стал быстро нагонять Паллавичино, доставая из-за пояса нагайку. Тот, заслышав позади стук копыт, остановился и развернул коня. Неужели его простят и разрешат ехать вместе с ними и сидеть в таверне за одним столом? Паллавичино на мгновение даже забыл о своём предательстве и об обязательстве перед легатом записывать и докладывать обо всех разговорах, которые будут вести Истома и Поплер. Он не знал, что в его присутствии больше нет необходимости: Истоме после Венеции он не был нужен, Поссевино, запланировавшему убийство русского — тоже. Но ему никто об этом не сообщил. О нём просто забыли, как забывают о чём-то ненужном, выполнившем предначертанную задачу. Он почувствовал себя пылинкой, поднятой горячим ветром сирокко [121] и кидаемой в разных направлениях, чтобы позже, когда ветер утихнет, оставить на земле, где сквозь него прорастут трава и деревья. И ничего поделать было нельзя: он выполнил свою задачу и стал не нужен. Никому.
С ужасом увидел он занесённую над собой страшную нагайку, на конце которой сквозь ремённую оплётку серела свинцом пищальная пуля. По положению руки Поплера он понял, что на этот раз удар предназначается не спине, нет. Он попытался увернуться от удара, но не успел. Немец ударил коротко, сильно, без оттяжки — словно заколачивал гвоздь. Так бьют, когда хотят убить.
Удар вплетённой в нагайку пули пришёлся точно в центр лба итальянца. Лобная кость хрустнула, пуля почти полностью погрузилась в мозг. Смерть наступила мгновенно. Паллавичино не упал, а как-то обмяк, повалился на шею лошади, да так и застыл. Поплер шумно выдохнул: он не чувствовал вины за убийство своего спутника. Напротив, у него появилось ощущение честно сделанной работы: он убил предателя, человека, от которого можно было ожидать любой подлости, как не раз бывало раньше. Сзади подошёл Истома. Он сразу понял, что случилось.
— Зачем? — только и сказал он.
Поплер усмехнулся:
— Лес узнаёшь?
Истома помотал головой.
— Здесь мы с разбойниками встретились. А этот, — Поплер кивнул на сидящий в седле труп, — ускакал. Ему, кажется, на роду написано умереть в этом месте. Тогда он судьбу обманул, да вот сейчас не получилось.
— Убрать его надо отсюда, — сказал Истома.
— В лес оттащим. Пока хватятся, нас уже не сыскать.
— Веди коня в поводу, а я придержу, чтобы не выпал из седла.
Спустя некоторое время они стояли на краю огромного оврага и смотрели вниз.
— Глянь-ка, — сказал Поплер, — не мы первые. Давай его туда же.
Далеко внизу поперёк русла протекавшего на дне оврага ручья лежало тело, а на склоне застыла мёртвая лошадь, зацепившаяся ногой за ёлку. Не обыскивая мертвеца, они столкнули тело вниз. Паллавичино покатился по склону, едва не задев лошадь, и вскоре лежал внизу, саженях в пяти от трупа Михеля.
— По лошади догадаются, — произнёс Поплер.
— Животинка не виновата, что возила негодяя, — ответил Истома, — пусть гуляет. Здешние жители её живо к делу приставят. И не сознается никто, что лошадь приблудная.
Поплер не стал спорить. После того как он убил Паллавичино — этого мерзавца, труса, предателя, средоточие всех человеческих пороков — он словно освободился от какой-то тяжести. Словно скинул с плеч тяжёлый мешок, и даже дышать стало легче. Как будто он оставил нечто, клонившее его к земле. Ему хотелось взлететь, и казалось, что даже конь его, обрадованный уменьшением носимого веса, идёт как-то особенно легко.
Они вышли из леса на дорогу. Солнце уже начало клониться к закату, но до сумерек было ещё далеко.
— Придётся в поле ночевать, — озабоченно сказал Истома, — помнится, по ту сторону границы поблизости таверны нет.
— Что ж, — ответил Поплер, — переночуем. Теперь можно.
Они пришпорили коней и пошли быстрой рысью. Спустя несколько вёрст лес кончился, и потянулись поля, перемежаемые невозделанными пустошами, поросшими кустарником и невысокими молодыми деревьями. Вскоре они миновали полосатый пограничный шлагбаум, где вооружённые стражники равнодушно посмотрели на папскую грамоту и пропустили их без лишних расспросов.
Когда начало смеркаться, они увидели вдалеке мерцающий огонь. Истома ощупал рукояти пистолетов — оба на месте, как и верный шамшир: мало ли кого они встретят! Хотя вряд ли лихие люди будут разводить костёр прямо у дороги. Впрочем, может, наоборот, они таким образом внушают путникам, что их не надо опасаться? Запутавшись в рассуждениях, он решил, что пусть всё идёт, как идёт.
Когда они подъехали ближе, то увидели, что неподалёку от дороги стоят два фургона, обтянутые грубой толстой, просмолённой от дождя дерюгой. Возле них горел костёр с подвешенным над ним казаном, а саженях в десяти паслись четыре стреноженных коня.
Пожилая женщина мешала деревянной весёлкой варево, на коротких берёзовых поленьях сидели трое мужчин разного возраста, а чуть в стороне молодая девушка, одетая в простое, сильно ношенное платье, подкидывала вверх четыре деревянные булавы, при этом в воздухе постоянно находились три из них. Она ловко ловила падающие булавы за рукоятку и тут же вновь подкидывала их вверх. Верхушки булав были покрыты чем-то блестящим, и Истома даже засмотрелся на мельтешение в ярком свете костра световых бликов. У него даже закружилась голова, и всё вокруг на мгновение стало каким-то нереальным, волшебным. Казалось, он оказался внутри некоего действа, происхождение и назначение которого он понять не в состоянии. Глаза у встреченных ими людей горели — но не сатанинским и не божественным огнём, а каким-то другим. Они казались неотъемлемой частью живой местности, где они находились. И у них всегда свои непонятные ни для кого, кроме них, дела, которые не зависят от того, кто сидит на троне и кто с кем воюет или торгует, какая здесь принята религия и какие ходят деньги, сколько стоят на здешнем базаре овёс, свинина или козловые башмаки.
Истома тряхнул головой, и наваждение исчезло.
— Скоморохи, — сказал он, делая глубокий вдох.
— Шпильманы, — вспомнил Поплер название странствующих артистов на немецком.
Девушка, заметив их, остановилась и, поймав последнюю падающую булаву, поклонилась гостям. Сидящие у костра посмотрели на них равнодушно и вновь повернулись к огню. Только сейчас Истома услышал, что они очень тихо переговариваются между собой, но что именно говорят, понять было невозможно. Но Истома, научившийся разбирать на слух, когда говорят по-немецки или по-датски, готов был поклясться, что разговор идёт не на этих языках.
Старуха, перестав орудовать весёлкой, повернулась к ним.
— Приехали, — равнодушно сказала она по-немецки. — Как раз и каша поспела. Садитесь.
— Мы заплатим, если вы накормите нас и приютите на эту ночь.
Старуха промолчала. Двое из троих сидящих на берёзовых обрубках мужчин, что помоложе, встали с места и растащили из-под казана толстые поленья, сбивая при этом с них тлеющие на боках угли. Сложив их неподалёку — очевидно, рассчитывая использовать наутро, они снова уселись на свои места. Истома заметил, что мужчины как-то недоверчиво косятся на них.
— Скажи им, — обратился он к Поплеру, — что мы их не обидим.