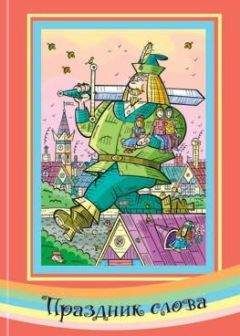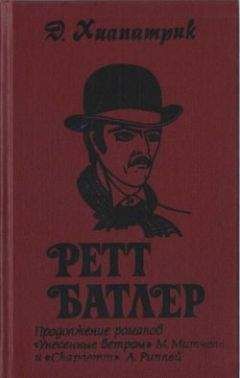Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
– Настоящая актриса? – недоверчиво спросил он.
Пекарская шутливо ощупала себя.
– Вроде настоящая.
– А как ваша фамилия?
Анна назвалась.
– Вспомнил. «Поедем в Уругвай»… Вот повезло мне. А меня Сашей зовут.
Он работал на кирпичном заводе. Собирался поступать в институт, потому что пообещал своей невесте, что выучится на инженера. При воспоминании о ней свет озарил его простое лицо.
– Она у меня культурная. В доме книжек полно… И меня заставляет читать.
В окно громко постучали.
– Немцы у леса!
Лес находился с глухой стороны дома. Похватав винтовки, красноармейцы выбежали наружу. В избе остались только Анна и раненый. На улице застрочил пулемет, прозвучало несколько выстрелов и наступила тишина. Анна подошла к окну: возле плетня стояли немецкие солдаты, у их ног лежал убитый красноармеец. Раздался выстрел, и один из немцев медленно осел на землю, а другие бросились стрелять по сараю.
От удара разбилось стекло избы, в окне показался ствол карабина. Анна сползла на пол. Хлопнула дверь. Вошел, озираясь, немец. Нордический красавец жестом приказал Пекарской идти на улицу. Анна послушно взяла пальто, но замешкалась, глядя на Сашу.
– Шнелле, – спокойно поторопил немец.
Когда она переступала порог, за ее спиной прозвучал выстрел.
Пленных погнали в сторону Вязьмы. По дороге к ним добавили еще гражданских и красноармейцев, и еще… Набралась колонна человек в триста. Мужчины несли на шинели раненую медсестру.
Девушка повторяла:
– Не бросайте меня, ребята. Мне еще пожить хочется.
И тот молодой, с забинтованной головой, шагал перед Анной по скользкой грязи, из-под его белого чепца сочилась кровь.
Все сгрудились, пропуская идущие навстречу немецкие танки. Они проползли вразброд, с широким лязганьем, сотрясаясь и волоча свои подбитые гусеницы. Когда танки прошли, красномордый конвоир закричал, ударяя палкой по головам и спинам пленных:
– Рус, айда! Шнель!
Русские брели, мрачно поглядывая на обочины и не понимая, как вышло, что они, масса еще недавно вооруженных, сильных мужчин, оказались в этом унизительном положении.
В поле чернел перевернутый советский танк, а поблизости валялись котелки, бочки, какие-то ящики. Они принадлежали разбомбленной колонне грузовиков, которые замерли тут же. Из их искореженных кузовов и кабин до сих пор торчали воткнутые для маскировки ветки.
В канаве на краю дороги лежали убитые гражданские со своими убогими пожитками. У одной погибшей девушки были уложенные в аккуратную корзиночку светлые косы. Заплетая их утром, она не догадывалась, что делает это последний раз в жизни. Бесконечный дождь заливал эти хаос и смерть.
Когда пленные подошли к повороту, тот самый молодой парень с повязкой на голове неожиданно выскочил из колонны и помчался в лес, петляя за деревьями. Несколько товарищей побежали вслед за ним. Все произошло так быстро: крики, стрельба… Убитые остались лежать на земле, а живые пошли по грязи дальше, пригибаясь под ударами.
В следующей деревне крестьянки, стоя у обочины, высматривали своих близких среди бредущих мимо пленных. Губы женщин скорбно шевелились, по лицам текли то ли слезы, то ли капли дождя. Поравнявшись с ними, Пекарская отделилась от колонны, замерла рядом. От холода и страха у нее стучали зубы. Крестьянки отступили в сторону, но ничего не сказали.
Несколько следующих дней Анна одиноко шагала от деревни к деревне, закрываясь от дождя и ветра, кутаясь в серый крестьянский платок-кисейку. В голове крутилась закличка из детства:
Дождик наконец услышал ее просьбу. Вместо капель с неба полетели острые снежинки, они щекотали нос и губы. Холода той осенью пришли раньше обычного.
Ночлег и еду Анна находила у жалостливых крестьянок или в брошенных избах. В пути ей встречались не только беженцы, но и красноармейцы. Измученные, небритые, замерзшие в своем легком обмундировании, военные небольшими группами или поодиночке пробирались на восток.
А гражданские брели, сами не зная куда. Шли по грязи, сгорбившись под своей ношей, женщины, старики с детьми, испуганные дети без родителей. Ночью в полях горели костры – люди ели и спали там же под своими ватными одеялами.
В одной деревне Пекарская сидела на грядке, собирая мелкую подмерзшую картошку, когда ее позвала крестьянка.
– Ласынь! Подь сюды!
Она и ее беременная дочь стояли с лопатами на дальнем конце огорода. У их ног лежали два мертвых тела со скрюченными пальцами и запавшими глазницами – немца и красноармейца. Еще недавно в этих телах пульсировала молодая жизнь.
Женщина протянула Пекарской лопату.
– Поможи нам их поховать. Немцы усих своих подобрали, а этого не нашли, третий день лежав.
Оружия при убитых не осталось, его унесли с собой ополченцы, которые прорывались здесь из окружения.
Пекарская взяла лопату, стала копать. Перед тем как положить убитых в землю, крестьянка их обыскала. У немецкого солдата нашлись деревенские варежки из козьей шерсти, ножик, фонарик, листовка, на которой было нарисовано вступление вермахта в Москву, и письмо с вложенной в него карточкой с фигурными краями. На ней молодая женщина с накрашенными губами и красивой прической обнимала двух беленьких девочек в светлых платьях.
– Ишь, яка цаца, – сказала про нее хозяйка.
Анна развернула залитое кровью письмо, некоторые строчки можно было разобрать. В нем жена называла мужа зайчиком, «хезхеном» и просила подарки к Рождеству.
«…только не отправляй больше русскую одежду и обувь. Неужели ты думаешь, что я и девочки станем… Покрывала и простыни тоже… столько… можно открывать магазин.
Курт прислал Эмме кулон с большими бриллиантами и еще два тяжеленьких обручаль… у многих наших русские меха, каждая вторая в серебристой… отправлять золото и камушки, заделай их в кусок мыла…
…кинохронику с пленными. До чего тупые и больные лица! И вам приходится иметь с ними дело! Признаюсь, мне было их немного жалко. Но я подумала, что для них же будет лучше, если их скотская… упорствуют и убивают наших солдат. За это я ненавижу их еще больше.
Мой хезхен, в газетах пишут, что скоро вы будете в Москве… осторожно в этом большом городе, там много заразных проституток.
Хайль Гитлер. Твоя верная женушка Ирма и любимые доченьки Рози и Ева. Ты еще не получил мою посылку с печеньем?»
В углу листка немка нарисовала красным карандашом сердечко со словами: «После расставания следует свидание». Оно было не таким ярким, как залившая письмо кровь ее мужа.
– И чаво ж ты до нас прыперся, сидел бы со своей цацей, – вздохнула крестьянка, швыряя комья земли на лицо мертвого.
У красноармейца тоже было письмо, он тоже носил его у сердца. Вечером дочь хозяйки читала это письмо вслух. Она поднесла листок к желтоватому свету керосиновой лампы.
– «Дорогой папочка, скорей кончай войну и приезжай домой. Мы очень по тебе скучаем. Твой наказ я выполняю, маму слушаюсь. Маленький братик Ванечка здоров. Мама его укладывает спать, она опять плачет…»
Горло беременной сжали спазмы.
– Сейчас, сейчас… – пообещала она матери.
И, положив ладонь на свой большой живот, дочитала сдавленным голосом:
– «Дорогой папочка, пусть твои глаза будут зоркими, руки сильными, чтобы бить фашистов. Мы очень ждем твоего возвращения… Твой сынок Васята».
Лежавшая на печи Анна беззвучно плакала, зажимая рот трясущейся мокрой ладонью. В последние дни она не проронила ни слезинки, а теперь горевала обо всех сразу – о Васяте, о его убитом отце, об этих двух крестьянках и их пока не родившемся младенце, о себе, о сгинувших товарищах, о пленных. Даже об убитом немце и его дуре-жене.