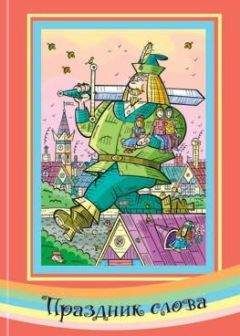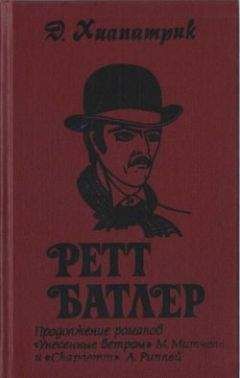Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
– Хотите, отправим вас домой? Мхатовцы уже уехали.
Анне хотелось в Москву. Затаив дыхание, она с надеждой посмотрела на Дорфа и Турынского. Оба казались ей пожилыми и мудрыми.
– Неудобно как-то получается, – произнес Дорф. – Что ж мы, вот так возьмем и уедем?
Решающее слово было за Турынским. Он покряхтел, поскреб ногтем щеку.
– Да, неудобно… Может, мы свой месяц доработаем во втором эшелоне?
Майор кивнул: хорошо, их завтра переправят в двадцатую армию, подальше от линии фронта.
Наступила ночь. Рядом была тишина, а издалека все чаще долетали звуки взрывов, и горизонт розовел от пожаров. Никто на советской стороне еще не осознал, что начавшееся наступление немцев – совсем не местного значения. Это были первые всполохи огненного шквала, который несли с собой шесть немецких армий, почти миллион солдат. Разворачивалась операция «Тайфун». Ее целью была Москва.
Эвакуация артистов началась раньше намеченного времени. В полной темноте их подняли по тревоге и вместе с редакцией фронтовой газеты посадили в грузовик. Бригада номер тринадцать присоединилась к одной из прорывающихся из окружения сборных воинских частей.
Взошло солнце, а грузовик по-прежнему метался по окруженной территории. Все выезды оказались заблокированы немцами. Последняя узкая лесная дорога была забита подводами и машинами. Впереди шел бой, там трещали винтовки и пулеметы, бахали орудия, рассекали воздух очереди пуль, звучало и сразу затихало «ура». А позади разрасталась суматоха: приказы, крики, стоны раненых.
Грузовик вернулся на большак, так по старинке здесь называли шоссе. По нему в сторону Вязьмы медленно катилась лавина отступающей армии: тяжелые орудия с огромными тягачами, автомашины, конные повозки, артиллерия и пехота. Все это лязгало, гудело, кричало. Дороги не хватало, и лавина выкатилась на обочины, поползла по целине, становясь шире. Она вырвалась в поле, там уже не стало видно ее краев.
В конце поля показалось спящее село: всего несколько изб, колокольня маленькой церквушки. И вдруг из этого мирного пейзажа застучали пулеметные очереди. Землю перед колонной вскопали мины, комьями взлетела грязь. Головная часть колонны замерла, чтобы развернуться, но ехавшие за ними еще продолжали движение. Машины сталкивались, налезали друг на друга. Люди, выскакивая из них, бежали к лесу.
Артисты тоже выпрыгнули из своего грузовика. Турынский, все еще думая, что от него что-то зависит, пытался выяснять обстановку и изо всех сил подбадривал товарищей. Но командовать начал ехавший с ними сержант. Он приказал оставить вещи.
В лесу сержант заметил, что его послушались далеко не все: у Дорфа на плечах болтался большой клетчатый плед, а младший Семилетов все-таки прихватил с собой музыкальный инструмент. Военный строго повторил приказ для Семилетова. Тот дрожащими руками открыл свой чемоданчик, потрогал голубой бархат и погладил саксофон, прощаясь с ним, словно это было живое существо. В его глазах появились слезы. После этого он замолчал: не отвечал на вопросы, смотрел в одну точку и все порывался убежать, сам не зная куда. Его удерживали, но он улучил момент, чтобы навсегда исчезнуть в чаще.
Начался минометный обстрел. В нескольких сантиметрах от лица Анны надломилась веточка – так близко пролетела смерть.
Сержант крикнул:
– Ложись! – и первым упал на землю.
Некоторые артисты замешкались. Они заплатили за это страшную цену. Турынскому осколок попал в грудь. Он схватился за ствол дерева, запрокинул голову. Ему показалось, что сквозь ажур листьев и веток он видит на краснеющем утреннем небе рябь от колесницы бога войны Марса. «Я отдаю тебе, кровожадный, свою жизнь. Забирай эту жертву и уходи из моей страны!»
Когда Турынский упал, его рука была вывернута уже по-мертвому, глаза смотрели в никуда. Дорф, задыхаясь, запричитал над погибшим другом.
– Семочка, ну как же… Как же так, дорогой ты мой… И похоронить-то тебя не можем.
Но времени не оставалось даже для простой скорби. Им надо было уйти подальше от обстрелов. Сержант приказал двигаться бесшумно, короткими перебежками, сливаясь с пнями, камнями, стволами. Полотов хромал, его ранило в ногу.
А тенор держался за глаза и все время повторял:
– Где медсанбат, я совсем ничего не вижу.
Впереди снова раздалась стрельба.
– Выходим к полю, теперь другого пути нет, – скомандовал сержант. – Там только ползком! Не подниматься!
Они уже проползли полпути по бурой картофельной ботве и склизким бороздам, когда их заметили немцы. Начался самый настоящий расстрел. Все вжались в землю, а Дорф вдруг поднялся и медленно побрел прямо на пули.
– Рафа, ну куда тебя несет? Ложись! – взмолился Бродин. Он пополз за другом.
Немцы не подстрелили Дорфа. Возможно, их заинтересовала нелепая штатская фигура с перекинутым через руку клетчатым пледом.
– Ох, черт… Опять!
Это Полотов, скривив лицо, схватился за ногу. Он был ранен во второй раз.
– Дважды в одно место. Плохо дело… Я мертв. Хоть жив. И говорю об этом…
Он еще пытался шутить.
Анна помогла ему доползти до леса. Теперь они остались совсем одни, рядом не было никого из их бригады. На лесной дороге показалась крестьянская подвода, в ней лежали раненые. Лошадью управлял старик в тулупе. Анна встала перед ним, преградив путь.
– Умоляю, возьмите нас с собой. Он не может идти. – Она показала на теряющего силы Полотова.
Крестьянин огладил свою черно-седую бороду.
– Его могу, а для тебя места не.
– Как мне вас потом найти? – спросила Анна.
– Перед большаком свернешь налево и до нашей вески дойдешь.
Подвода скрылась за деревьями, а Анна, растрепанная, в запачканном пальто, все стояла на лесной дороге.
Она засунула руки в карманы. В одном оказались театральные билеты. Они с Максимом ходили в Большой на премьеру «Тараса Бульбы»: наслаждались там мастерством Лепешинской, а в антракте пили шампанское. Это было в конце марта и тысячу лет назад. Поправив волосы, Анна побрела в ту сторону, куда уехала телега…
Именно в те дни Рокоссовский оказался оторван от своих солдат. Перед самым наступлением немцев, выполняя непонятный ему приказ, он был вынужден отправиться со своим штабом в Вязьму.
Темно-синий генеральский ЗИС медленно двигался по запруженной беженцами дороге. Мычали запряженные в телеги коровы и быки, плакали дети. Среди пожитков в телегах лежали старики и больные. Инвалид, которому не хватило среди них места, ковылял, опираясь на костыль.
Кочевники поневоле, эти люди лишились всего. Генералу трудно было выносить их взгляды – он, военный человек, не защитил их. Лишь одна маленькая девочка доверчиво улыбнулась ему из телеги. У нее была такая же черненькая челка, как у его дочери.
Небо наполнилось гулом бомбардировщика. Немец летел прямо над дорогой. Лошади в испуге шарахнулись в разные стороны, а беженцы заметались, не зная, куда спрятаться. Послышался нарастающий свист, за ним – грохот, удары.
Оглушенный Рокоссовский вылез из машины. Рядом валялся костыль, дергалась в агонии лошадь. На грязной дороге лежали убитые и пытались ползти раненые, за ними волочились окровавленные лохмотья. Возле перевернутой телеги зашевелилась раненная девочка. Та самая, с черной челкой.
Когда генерал поднял ее с земли, она еще дышала. Последним, что эта малышка увидела в своей короткой жизни, было его лицо. Закрывая ей глаза, Рокоссовский пообещал, что будет бить фашистов, пока ни одного не останется на этой земле.
На холме над Вязьмой возвышался похожий на заброшенную крепость собор. Величественный, затейливо украшенный каменными кокошниками, он считался главным городским храмом. В прежние века его грабили и разрушали поляки, французы, он всегда восстанавливался. Но в двадцатые годы его полностью разорила советская власть.
Осталось лишь то, что нельзя было переплавить в драгоценные слитки или выбросить: голосники в стенах да круглый просвет между царскими вратами и изображением Тайной вечери. В этом просвете белый голубь слетал вниз в сиянии разреженных лучей.