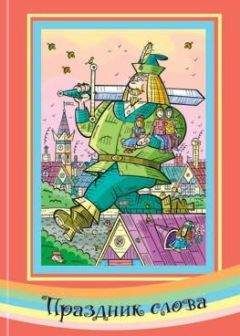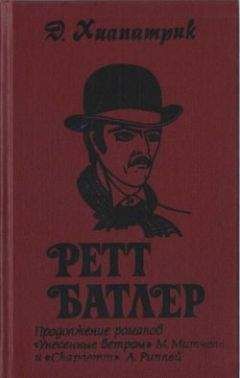Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Кресты на монастырских куполах пока держались, а колокола уже были сняты, монахинь выгнали. Сейчас в монастыре располагались магазины и центральный музей союза безбожников, но и этим предстоял скорый переезд. Страстной приговорили к сносу. Лишь захоронения решили не трогать, так как они не могли помешать будущим маршам и танцам.
Пушкин тоже привлек внимание властей. Появилось распоряжение перенести памятник на другую сторону улицы и вдобавок отредактировать надпись на гранитном пьедестале. «Пришло время покончить с произволом царской цензуры, – писали газеты. – Ведь не такие у поэта были слова в его свободолюбивом стихотворении». Строчки постановили вырубить в новой орфографии, без «еров» и «ятей».
Покрытый зеленой патиной поэт (правая рука заложена за борт сюртука; в левой, откинутой назад – шляпа) стоял напротив монастыря, задумчиво глядя на москвичей. Рядом рабочие устанавливали зонтики над столами летнего «кафэ». Босоногие мальчишки прыгали через бронзовые гирлянды ограды памятника, сидели или лежали на них, как в гамаках. Тут же играли ухоженные домашние дети в красивых капорах и ботиночках на шнуровке. На скамейках, сообща присматривая за малышами, разговаривали мамаши и няньки. И тихо сидели с книгами юные девушки, время от времени поднимая головы, чтобы прикрыть глаза и улыбнуться солнцу.
Рядом с ожидавшим под фонарем мужчиной возник босоногий, похожий на юркого чертенка беспризорник. Он не спускал глаз с дымящейся папиросы мужчины, дожидаясь, когда она превратится в окурок, и тихо канючил сиплым голосом:
– Дяденька, дашь папироску выбросить?
Тот наконец смерил мальчишку взглядом.
– Мусорить нехорошо. На вас же на днях облава была.
– А я от этих легавых убег, – с гордостью ответил беспризорник. – Ну дай, ну дай папироску бросить!
Мужчина, порывшись в кармане, вытащил горсть монет.
– Лучше еды себе купи.
Мальчишка быстро сжал монетки в грязной ладони и опять заныл свое:
– Ну дай хоть разок дернуть!
Но мужчина уже ничего не слышал, потому что разглядел кого-то в толпе. Его лицо просияло: к нему летящей походкой шла та единственная, которую он так долго ждал. Анна… Ее темные локоны развевались на майском ветерке, пальто было распахнуто, щеки порозовели от быстрой ходьбы. Он поспешил навстречу, и беспризорник наконец получил то, чего добивался. Подняв с земли брошенный мужчиной дымящийся окурок, мальчишка жадно, обжигая пальцы и губы, докурил его одной-единственной затяжкой.
А те двое остановились в шаге друг от друга. Это было их первое свидание.
– Простите меня, пожалуйста! – выдохнула она. Ее карие глаза рассмеялись из-под шляпки. – Как я рада, что вы не ушли, Максим.
– Я бы так скоро не ушел. Я бы еще долго здесь торчал, птиц на нем считая… – Мужчина посмотрел на Пушкина как на старого знакомого. – Пока сам памятником бы не стал. Таким же зеленым.
– Памятником самому себе? – спросила Анна.
– Зачем самому себе? Это был бы памятник всем жертвам несостоявшихся свиданий. Даже надпись для постамента придумал, пока ждал. «На Твербуле у Пампуша ждет меня миленок Груша!» Вот.
Она расхохоталась.
– Это же из частушки!
Их встреча была всего лишь одной из множества происходящих здесь людских встреч. Но присутствовало в этой паре что-то такое: возможно, не допускающая возражений красота женщины или значительность мужского лица с умными глазами и слегка оттопыренными ушами, – что заставляло прохожих всматриваться в этих двоих, даже оборачиваться им вслед.
Больше, конечно, смотрели на Анну, узнавая и не узнавая. Ее красоту можно было сравнить с запечатанным сосудом – ни добавить, ни убавить, ни попробовать. К этому восхищению сразу присоединялась тревога: разве позволено кому-то так смущать мир?
Максим и Анна направились под кроны боковой аллеи. Он, обычно шагающий широко, подстроился под ее поступь. Столько потом было у них других встреч. Распускались душистые почки на серебристых тополях, щекотал ноздри пух, летели лепестки, падали капли дождя.
Во время этих прогулок они перепробовали все уличные развлечения. Заказывали художнику свои силуэты, и тот за несколько минут ловко вырезал их из черной бумаги. Покупали копеечные сласти у лоточника. Вместе с толпой глазели на выступления циркачей.
Те показывали акробатические номера, жонглировали, обманывали зрителей фокусами. Цирк был самый незамысловатый. Его бродячая труппа состояла из китайца с китайчонком, ареной был брошенный на землю коврик, цирковой кассой – блестевшая рядом миска с мелочью. Анна кидала деньги в эту медную миску и азартно аплодировала, когда ей удалось разгадать трюк с заглатыванием костяного шарика.
Они стали любовниками девятнадцатого июня. Число запомнилось, потому что в тот день было солнечное затмение. О нем заранее объявили в газетах: «Первое в истории СССР!» Неудивительно, что вся Москва замерла тем утром. Домохозяйки и милиционеры, старики и пионеры, обратив глаза к небу, приложили к ним закопченные стеклышки или специально приобретенную в «Союзкульторге» пленку.
Анна тоже наблюдала из окна, как черный диск наполз на солнце. По земле побежали струящиеся тени. В наступившем сумраке закричали мальчишки, нервно залаяли собаки, с цвирканьем заметались птицы. Все живое было напугано. Вдруг эта накрывшая город темнота не уйдет? Как теперь жить, дышать?
Тень медленно прошла через солнце. И, когда благополучие на небесах восстановилось, с сарайчика в соседнем дворе радостно прокукарекал петух.
Днем Максим повез ее на пикник. Окраина Москвы жила деревенской жизнью: ветшающие дачи прятались в зелени у реки, рядом с водоотводными канавами паслись коровы и степенно ходили гуси. Выбрав место под старым ясенем на пригорке, Анна и Максим расстелили плед, достали из корзины вино, бутерброды и отпраздновали возвращение солнца. А потом просто лежали, глядя на ветки и небо, которое все летело, летело вниз и никак не могло упасть на их хмельные головы.
Анна пощекотала Максима стебельком. Он крепко обнял ее.
– Больше не выпущу! Моя.
Она со смехом вырывалась.
– Ваши руки скоро устанут, или просто надоест меня держать!
– Не надоест. Всю жизнь буду так держать. Я люблю вас, Аня…
На обратном пути, уже в машине, она пожаловалась:
– Ноги натерла! – и сняла туфли.
Когда они приехали, Анна босиком побежала к своему подъезду. На лестнице ее маленькие, натертые туфлями пятки замелькали перед глазами Максима.
Она не сразу попала ключом в замок и призналась с виноватой улыбкой:
– Я совершенно пьяная.
Все показалось таким легким. Он раздевал ее на кровати, она помогала, по-детски поворачиваясь, вздыхая и смешно закатывая глаза. Лепетала, что туфли сняла еще в такси. У него из кармана выпало и разбилось темное стеклышко. «Это к счастью», – одновременно сказали оба.
Потом они лежали, скрестив руки и ноги, живописно запутавшись в тонком покрывале.
Анна тихо рассмеялась:
– Зефир и Флора. Если сверху на нас посмотреть.
– Что? – рассеянно спросил Максим.
Она коротко ответила:
– Ну, у Боттичелли.
Не объяснять же ему, такому умному и начитанному, что они сейчас похожи на картинных бога и богиню, которые в своих развевающихся драпировках парят между небом и землей. А он снова не понял, его мысли в тот момент были не очень четкими. Он давно ожидал этой близости, но не подозревал, что она так ошеломит его.
Хрупкость Анны вызывала в нем острое и противоречивое желание – защитить и в то же время сильно стиснуть это стройное нерожавшее тело. И он снова ласкал ее, теряя голову и причиняя боль, и умолял о пощаде, и замирал от счастья. Она прикладывала пальчик к его губам: тихо, соседи услышат…
Анна провожала Максима до двери – раскрасневшаяся, теплая, в расшитых домашних туфельках. Привстав на цыпочки, прижалась к нему, и он сразу расхотел уходить, забыв про неотложное дело в Горсуде. Там было восемь объемистых томов и всего два дня на подготовку к процессу. Но она со смехом вытолкала его – у нее больше нет времени, ей пора собираться в театр.