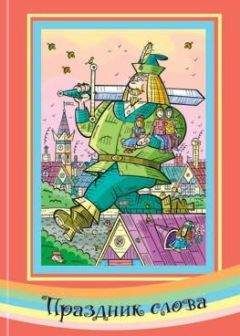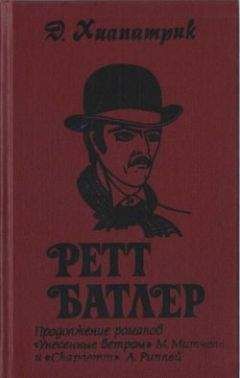Птичка польку танцевала - Батлер Ольга Владимировна
Она взялась за коня, но Капабланка вдруг шутливо поднял ладони, сдаваясь. Он поцеловал ей руку и поднялся, чтобы поскорее убежать от всего, что могло бы случиться между ними. Если б он встретил ее на несколько лет раньше, во время своего первого приезда в СССР…
– Благодарен за знакомство и прекрасную игру! – по-немецки сказал шахматист.
Его чужеземная прямая спина еще не исчезла в дверях, а все уже заговорили о нем.
– Протуберанец!
– Скоро вся Москва будет ходить в запонках и галстуках, как у него.
– Аня, страшно сказать, вы только что победили Капабланку.
– Да! – засмеялась она, извлекая шахматные фигурки из отверстий. – Хотя выигрыш занял бы у него еще меньше времени…
Пекарская продолжала блестеть глазами.
– Думаю, он меня вспомнил! Ведь я вчера ходила в Колонный зал на его турнир и в толпе мужчин была, наверное, единственной женщиной.
– Вокруг вас всегда толпа мужчин, Аннушка, – развеселился Иванов. – А Капабланка, бедный, думал, что они пришли посмотреть на его игру.
К их столику снова подошел Трубка.
– С десертом вашим не желаете ли попробовать новый азербайджанский портвейн, «Агдам»? Только вчера завезли.
Он был так же щепетилен в подборе напитков. Следил, чтобы белое подавали холодным, красное – комнатной температуры, и чтобы более ароматное вино следовало за менее ароматным.
После портвейна и ягод Дорф откинулся на спинку кресла.
– Ну что, едем в СерБор?
– Едем, конечно!
Но Анна всех расстроила.
– Я не смогу. Извините, ребята. Не предупредила, что мое расписание поменялось.
Мужчины покачали головами.
– Ну, Аннушка… Без вас будет не то!
Пекарская посмотрела на свои часики.
– Ох, уже опаздываю!
Дорф предложил подвезти, но она и от этого отказалась.
– Нет-нет, здесь недалеко.
– Анна Георгиевна, а шо это вы такая радая? И где же вы сегодня идете, Анна Георгиевна? – поинтересовался Иванов.
– Ды так… Тудой, потом сюдой, ничово специального, – скороговоркой ответила Пекарская и вдруг игриво ткнула своим ярким ноготком в его американский галстук.
Иванов рассмеялся.
– Шо вы пихаетесь?
– Дык крошку хлебную с вас сняла. Не верите? Ви мене удивляете, честное слово. Шоб мне не дойти, куда я иду!
– Таки я эту крошку, может, на ужин сберегал! Ви мене сейчас весь аппетит убили.
Они препирались, словно какие-нибудь Соня и Моня на Привозе.
– Скучаете за своей Одессой, Женя? – спросил Полотов у Иванова. Он сам был с Дона, там говор был не менее цветистый.
– Между прочим, я тоже из Одессы, – сказала Анна.
– Ну и дела! Я всегда подозревал, что в этом подвале нет настоящих москвичей. – Полотов обвел взглядом сидящую за столом компанию. – Только одни товарищи ошеломленные провинциалы. В самом деле, кому нужен какой-то Кривой переулок в городке Энске, если есть на свете Москва и Чистые пруды?
– А Трубка? Он вроде в Москве родился.
– Ну хорошо. На нашем фоне даже Трубка – коренной москвич. Почти титульный.
– Да, мы провинциалы. Только, клянусь, давно не ошеломленные! Вот вам истинный одесский крест!
– Эй, православные, поосторожнее насчет провинциалов, – встрепенулся Бродин. – Хотя что на самом деле важно?
«Что» у него звучало по-питерски четко.
– Гений рождается в провинции, чтобы…
– Чтобы помереть в Москве, значит.
– И дадут тебе большой город с домами, которых ты не строил, и с виноградниками и маслинами, которых ты не сажал.
– Я в свой первый приезд сюда сидел в саду… – начал свой новый рассказ Бродин.
– В саду с маслинами? – спросил Дорф.
Бродин расхохотался.
– Нет, всего лишь с желудями и шишками. В саду «Эрмитаж»… Я там вслух читал монолог Чацкого. Когда произнес: «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок», – мой сосед по скамейке хлопнул меня по плечу: «Верно!»
– И этот человек по совершенно чистой случайности оказался владельцем театра, – улыбнулась Пекарская, пряча шахматы в свою сумочку.
– Анна Георгиевна, вы угадали! – удивился Бродин. – Но при этом сильно сократили мой рассказ!
– Ох, Яша, извините. Просто я сейчас ухожу, а так хотелось узнать концовку.
Пекарская встала, прощаясь. На ней было шелковое платье с искорками. Сумеречный волан заколыхался у ее коленок, а на бедре, чуть ниже изгиба, блеснула пряжка.
Мужчины за столом – все очень известные, очень женатые и насквозь ироничные, – притихли, завороженно глядя на этот изгиб и пряжку. Они знали, что нельзя делать Пекарской комплименты по поводу внешности. Анна считала, что это принижает ее настоящие достижения. Ведь красота – это не заслуга, это подарок… От Бога или от природы, кто во что верит.
Первым очнулся Полотов. Он пошел проводить Пекарскую.
– Вы вправду родились в Одессе? – спросил Полотов перед самой дверью.
– Ниша, это правда! Мы почти сразу уехали оттуда, но я успела с молоком кормилицы впитать немного Одессы… И все же не понимаю… Ну как так вышло, Даниил? – вдруг строго спросила она.
Он встрепенулся.
– Что именно?
– Что вы совсем ничего про меня не знаете! – укорила Анна делано суровым тоном. На самом деле ей хотелось протянуть руку и ласково погладить его вечно взъерошенные волосы.
– Ах, вот оно что… – Полотов коварно прищурился. – Вава, это только потому, что наша любовь выше всяких там прописок и анкет.
В их соревновании был постоянный вызов. Анна засмеялась, берясь за ручку двери.
– Хорошо, принято!
– Последний ход был мой, Анна Георгиевна. Притом что я не Капабланка! – крикнул Полотов ей вдогонку, в закрывающуюся дверь.
Вернувшись к столу, он развел руками.
– Ну вот скажите, что это означает? К черту всех старых поклонников, когда впереди тебя ждет одна-единственная встреча?
– Нет, – улыбнулся Бродин. – Я вам скажу, что это означает… Скоро наша Анюта разобьет сердце еще одному счастливчику.
– Эх, жизнь… Кругом не сердца, а сплошные осколки… – вздохнул Дорф. Он был старше всех в компании, ему недавно исполнилось сорок три года.
Пампуш на Твербуле – так, высмеивая советские аббревиатуры, москвичи называли памятник Пушкину, – был местом свиданий. Под его фонарями маячили принаряженные одинокие фигуры. Их одиночество не бывало долгим, и вскоре очередная парочка отправлялась гулять по аллеям.
Лишь один мужчина уже минут сорок прохаживался в ожидании, часто куря и посматривая то на часы, то на противоположную сторону улицы Горького. Вот он опять скользнул взглядом по огненной ленте призывов, ползущей над зданием «Известий», потом, похлопав себя по карманам, вытащил спички и портсигар. На крышке его портсигара скакал красный конник, внутри рядом с папиросами лежали свежие окурки. Папирос становилось все меньше, окурков – все больше. Мужчина сосредоточенно задымил.
Мимо прогрохотали битком набитые вагоны пятнадцатого маршрута. В их окнах виднелись разгоряченные лица пассажиров. А на остановке у Страстного монастыря трамвай поджидали, сжимая свои баулы и корзинки, очередные желающие в него втиснуться.
Как только он подъехал, эти граждане и гражданки превратились в идущих на абордаж пиратов. В ход пошли локти, коленки, корзины. И даже один истошно орущий младенец, которого предприимчивая мамаша держала перед собой, прокладывая дорогу. У какой-то дамы разорвался размокший кулек, из него посыпались соленые огурцы. Пытаясь спасти их, она выронила из другого кулька пирожные. Все было тотчас затоптано сапогами и туфельками.
Над этой грубой жизнью с колокольни Страстного монастыря сиял, как ангел, светлый образ кинозвезды Соколовой в белых одеждах и перьях. Огромная афиша нового фильма Никандрова уже несколько дней украшала город. Трудно было бы найти для нее более выигрышное место.
В последние годы эта колокольня считалась главной информационной тумбой Москвы. Чего на ней только не висело: лозунги к юбилею «Правды», стихи Пушкина, объявления «Автодора» с предложением посадить весь СССР на автомобиль и даже антирелигиозная агитация с пузатыми фигурками попов.