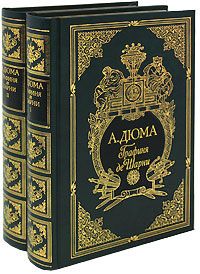Александр Дюма - Джузеппе Бальзамо (Записки врача)
— Все это мне известно, сударь, — проговорил Жильбер. — Я видел вас вблизи и разгадал вас.
— Если ты видел меня вблизи, если ты меня разгадал, в таком случае разве тебе не открывается смысл моей жизни, скрытый от других людей? Неужели мое странное самоотречение, столь не свойственное моей природе, не подсказывает тебе, что я стремился искупить…
— Искупить? — пробормотал Жильбер.
— Разве ты не понял, — продолжал философ, — что если вначале нищета вынудила меня принять чрезвычайное решение, то позднее я уже не мог найти этому решению другого искупления, кроме как полное бескорыстие и непреходящая нищета? Неужели ты не понял, что я наказал собственную гордыню унижением? Ведь именно он, мой гордый разум, был во всем виноват; именно он в поисках оправдания прибегал к помощи разного рода парадоксов. С другой стороны, я до конца дней наказал себя постоянными угрызениями совести.
— Вот как вы мне отвечаете?! — воскликнул Жильбер. — Вот так вы, философы, всегда: обращаетесь с наставлениями ко всему роду человеческому, приводите нас, бедных, в полное отчаяние, и не дай Бог нам возмутиться! А какое мне, собственно говоря, может быть дело до вашего унижения, раз оно тщательно скрыто, до ваших угрызений совести, если их не видно?! Будьте вы прокляты, прокляты, прокляты! Пусть ответственность за преступления, совершенные с вашим именем на устах, падет на вашу голову!
— На мою голову, говорите? И проклятие и наказание? Вы не забыли о наказании? О, это было бы слишком! Вы тоже согрешили, неужели и себя вы осудите столь же строго?
— Еще строже! — ответил Жильбер. — Мое наказание будет ужасным! Ведь теперь я ни во что не верю и позволю своему противнику, вернее, своему врагу, убить меня без сопротивления; теперь ничто не может помешать моему самоубийству, на которое меня толкает нищета и совесть. Теперь смерть уже не представляется мне потерей для человечества, а вы написали то, во что сами не верили.
— Замолчи, несчастный! Замолчи! — воскликнул Руссо. — Ты и так по глупости наделал много зла. Не приумножай теперь дурные поступки, приняв дурацкий скептический вид. Ты говорил о ребенке. Ты сказал, что уже стал или собираешься стать отцом.
— Да, я это говорил, — подтвердил Жильбер.
— Знаешь ли ты, — едва слышно продолжал Руссо, — что значит увлечь за собой — не в могилу, нет, а в пропасть позора и бесчестья — существо, рожденное по воле Всевышнего свободным и добродетельным? Попытайся понять, насколько ужасно положение, в каком я оказался: когда я бросил своих детей, я понял, что общество, никому не прощающее превосходства, бросит мне в лицо этот оскорбительный упрек. Тогда я постарался оправдаться в собственных глазах, прибегнув к помощи парадоксов. Так и не сумев стать отцом, я потратил десять лет своей жизни, поучая матерей, как воспитывать детей. Будучи болезненным и порочным, я наставлял государство, как вырастить из них сильных и честных граждан своей страны. И вот настал день, когда палач, желая мне отомстить за общество, государство и брошенных детей, но не имея возможности взяться непосредственно за меня, сжег мою книгу, словно это был ходячий позор для страны, чей воздух эта книга отравляла. Суди сам, хорошо ли я поступил, прав ли я был в своих наставлениях… Ты молчишь? Ну что же, значит, Господь на твоем месте чувствовал бы себя в затруднительном положении, а ведь в его распоряжении находятся весы добра и зла! У меня в груди бьется сердце, способное ответить на этот вопрос. Вот что оно мне говорит: «Горе тебе, бездушный отец, бросивший родных детей! Горе тебе, когда ты встретишь на углу улицы юную наглую проститутку, ею может оказаться оставленная тобой дочь, и толкнул ее на эту низость голод. Горе тебе, когда увидишь, как на улице схватили воришку, у которого еще не успела сойти с лица краска стыда за совершенную кражу: возможно, это брошенный тобою сын, и толкнул его на преступление голод!»
С этими словами приподнявшийся было Руссо снова рухнул в кресло.
— Впрочем, — продолжал он дрогнувшим, проникновенным голосом, словно произносил молитву, — я не настолько уж был виновен, как можно подумать: я видел, что мать была бессердечной, она оказалась моей соучастницей, она забыла о своих детях так же легко, как это бывает с животными, и тогда я решил: «Раз Господь позволяет матери забыть своих детей — значит, она должна их забыть». Я ошибался в ту минуту, а сегодня ты услышал от меня то, в чем я еще никогда и никому не признавался. Сегодня ты не имеешь права заблуждаться.
— Следовательно, вы не бросили бы своих детей, если бы у вас были деньги на пропитание? — нахмурился Жильбер.
— Нет, никогда, если бы имел хоть самое необходимое! Клянусь! Никогда!
Руссо торжественно поднял дрожащую руку к небу.
— Скажите: двадцати тысяч ливров хватило бы, чтобы прокормить свое дитя? — спросил Жильбер.
— Да, этой суммы довольно, — отвечал Руссо.
— Хорошо, сударь, благодарю вас. Теперь я знаю, что мне делать.
— В любом случае вы молоды, вы можете работать и прокормите своего ребенка, — прибавил Руссо. — Но вы что-то говорили о преступлении: вас, верно, разыскивают, преследуют…
— Да, сударь.
— Укройтесь здесь, дитя мое, чердак по-прежнему свободен.
— Как я вас люблю, учитель! — воскликнул Жильбер. — Я очень рад вашему предложению и ничего у вас не прошу, кроме убежища. Уж на хлеб-то я себе заработаю! Вы же знаете, что я не лентяй.
— Раз мы обо всем уговорились, — с озабоченным видом сказал Руссо, — ступайте наверх. Госпожа Руссо не должна вас здесь видеть. Она теперь не ходит на чердак с тех пор, как вы съехали, мы ничего там не храним. Ваша подстилка на прежнем месте, устраивайтесь поудобнее.
— Благодарю вас! Все складывается лучше, чем я того заслуживаю.
— Я вам больше не нужен? — спросил Руссо, словно выпроваживая Жильбера взглядом из комнаты.
— Нет, будьте добры: еще одно слово!
— Слушаю.
— Однажды, — это было в Люсьенне — вы обвинили меня в предательстве. Я никого не предавал, я следовал за любимой женщиной.
— Не будем больше об этом говорить! Это все?
— Да. Скажите, господин Руссо, если мне нужен чей-нибудь парижский адрес, могу ли я его узнать?
— Разумеется, если это лицо известное.
— Тот человек, о котором я говорю, очень хорошо известен.
— Как его зовут?
— Граф Джузеппе Бальзамо.
Руссо вздрогнул: он не забыл заседания ложи на улице Платриер.
— Что вам угодно от этого господина? — спросил он.
— Сущую безделицу. Вас, своего учителя, я обвинил в том, что вы явились нравственной причиной моего преступления, поскольку я полагал, что следую закону природы.