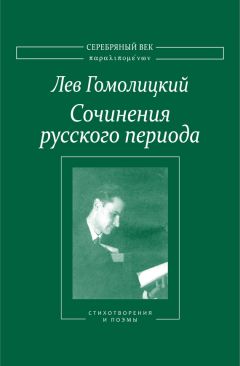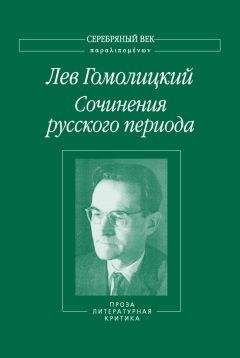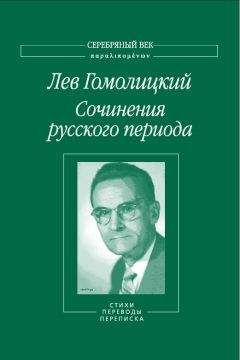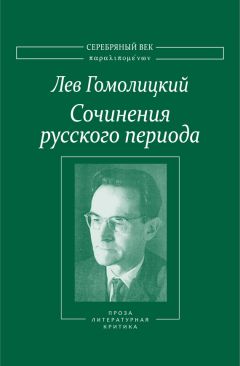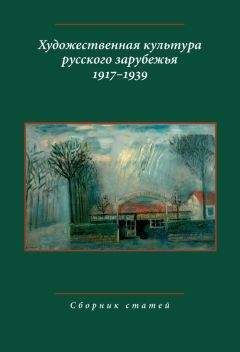Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1
204
На травах огненных земного ложа
опустошенный, оголенный лежа,
совлекшийся одежд, веков, религий,
израненный колючими стеблями,
весь раскаленный солнцем и ветрами,
расплавленными в огненном эфире,
я как бы слышал отзвуки глухие,
обрывки возгласа напевного из книги,
Богами распеваемой на пире...
И с этих пор их звуки унесли
мой дух – внемли, мой смертный слух!– с земли.
Во сне по рощам облачным блуждаю,
оттуда вижу в дымке Гималаи –
огромный стол божественных пиров.
За ним гиганты в образе Богов.
Я узнаю в волнении оттуда
их облики: один, с улыбкой,– Будда,
он Иисусу книгу подает
раскрытую, ее читает тот,
поет, раскачиваясь, заложив страницу.
За ним – нагнувшись, гладит голубицу
весь знойный Кришна, дальше – Ляотсе,
седой младенец, но внимают все
его смиренному молчанью. Различаю
я даже дымный силуэт Шаддая
в конце стола. Священный аромат
в мой сон восходит, в мой духовный сад.
Курятся мудростью нетленной Гималаи...
205
Закинув голову, ресницы опустив,–
да, тяжкие, как все века, ресницы,–
сквозь звездных бездн вскипающий прилив
пытаюсь вспомнить человечьи лица.
Я забываю даже имена
их мудростей, ошибок... их столетий.
Вы любите сидеть в саду, когда
играют возле на дорожках дети?
И я, вникая, чувствую ее,
великую, хотя о малых, радость
смотреть на их борьбу и торжество
и заблуждений горечь или сладость.
И я бы, веселясь, их малых лон,
голов касался, разрушая стены
времен, когда бы неподвижный сон
не приковал мои в пространстве члены.
206
Вдыхая солнца золотистый прах
они лежат, пасясь на берегах,
богов потомки – горды, кругороги,
какими чтил их нынешний феллах.
Их льется кровь на бойнях, зной дороги
их выменем натруженным пропах,
но царственны и милостивы – боги
в движениях замедленных, в делах –
они жуют земное пламя – травы
(земля горит зеленою травой),
пьют воздух, головы закинув, голубой,–
чтоб, претворив в себя дыханье славы,
нас причащать нетленного собой –
молочной жертвой,– жертвою кровавой.
207
О камни, солнцем раскаленные, в вас много
тоски по дымным первобытным дням,
когда подобны были вы огням:
в творенья час, там, в дуновеньи Бога,
в мир открывая облачную дверь,
гремя из тьмы сверкали... а теперь –
лежите вы покорно под ногами,
лицо вам стершими, и мир уже над вами
колесами скрежещет и гремит,
и солнце, усмиренное в эфире,
уже не пляшет, как на древнем пире,–
в ярме у времени под свист бича спешит
по циферблату дней благополучных
над тишиной полей, хлебами тучных,
где серп кровавый осенью звучит.
Но накаляясь в золоте зенита,
смирением источенные плиты,
травой из трещин пламенно дыша,
лучитесь мудрой теплотой и лаской
на всех бездомных, жмущихся, с опаской
ступающих, растоптанных, несытых,
кому опасны имя и душа.
1924-1934
ДОМ
208
К стеклу вплотную подошла луна.
Плечо к плечу, бедро к бедру без сна
лицом в подушку мы с тобой лежим.
Вся наша жизнь
луной
освещена.
Жена моя, почти всю ночь не спим,
и вспышки слов и мыслей легкий дым
над нами: тень, дыхание, волна:
сквозь лунные
воздушные
следы.
Из тьмы ночной иная тьма сейчас
возникнет: сон, и немотою нас
бесчувственной разделит.
Называем
еще друг друга шопотом,
вдыхаем
волос и кожи запах золотой:
любовный мед, сгущенный тишиной.
Но дышат ребра, мерно округляясь.
Наш час родной
плывет,
дрожа, качаясь,
над
бездной
сна...
Наш чай безоблачный,
который пьем,
размешивая с утренним лучом,
над тенью уличной бездонной щели,
и за окном, на камне городском
напоминанье:
голос птиц и ели.
И белая тяжелая луна,
плывущая над пустотою сна,
касаясь краем каменным постели,
и в непрозрачной пустоте окна
прозрачные безвесные недели...
О, наш воздушный,
наш
непрочный дом,
где между дверью, зеркалом, окном,
ломая руки, бродит жизнь со страхом,
стоит в окне, боясь взглянуть назад...
и где идет вдоль стен
бесшумным взмахом
нелиственный недвижный листопад.
209
Не научившись быть вполне земным,
я не умею быть еще жестоким.
Мои слова
оглушены высоким,
неуловимым, тающим, как дым.
На этот кров,
наш тесный шаткий дом
не ринутся слова мои обвалом:
хотят светить прозрачнящим огнем,
возвышенным
в униженном и малом.
Горевшее то тускло,
то светло,
косноязычное от сновидений
тело,
ты никогда справляться не умело
с тем, что в тебе клубилось и росло.
210
С нечеловеческим тупым расчетом
стучать лопатой о песок замерзший,
стучать лопатой о чужую землю,
чтоб выбить из нее скупое право
на ночь бессонную –
на утомленный день,
от голода, отчаянья, надежды
пронзенный мелкой ненасытной
дрожью...
И вот,
блуждая в пустоте изгнанья,
впадающей в пустыню мировую,
я ощутил великое томленье,
необоримую тоску – тоску усталых
по благостному дню отдохновенья.
Так бегства первый вынужденный шаг
на борт спасительный чужого корабля
стал бегством духа из всемирной стужи
к бесславному блаженству очага,
в домашнее натопленное небо.
Пусть говорят, что не из скудных крошек
случайного и черствого даянья
насыпана походная землянка
скитальческой и безымянной жизни,
что из высоких музыкальных мыслей
возведено таинственное зданье,
в котором Дух великий обитает –
ДОМ,
буквами написанный большими.
Адам, скиталец бесприютный – тело,
о, как же чает это прозябанье
простого деревянного уюта,
который ветер ледяной обходит,–
написанного с маленького д,
пусть шаткого, пусть временного
дома.
1933
211
Эмигрантская поэма
О вы, летучие листы!
Что бурей сорванные птицы!
Мететесь в шумные порты
и европейские столицы.
Что им до ваших крыл – и так
земля в разливах душ и кликах! –
до ваших трой или итак,
крушений, подвигов великих.
И только новый одиссей
занять бы мог рассказом длинным
о древних ужасах морей,
о поднебесии пустынном,
мечтах под грузом портовым
в Марселе, Фриско, Санта Лючьи,
о царской гордости своим
великим неблагополучьем.
Средь возмущений и речей,
опять колеблющих народы,–
о новой мудрости своей
безмолвной мысленной свободы.
1
Все богоделанно в природе:
богорасленные сады,
плакущей ивой в огороде
укрыты нищие гряды;
мироискательные воды
у пастбищ мирное гремят;
кровосмесительные годы
отходят дымом на закат;
звуча, распевен полноречно
метал-ла глас, глагол – луча.
И человеку снова вечно
в дороге пыльной у ключа.
Как можно было в этом мире
кровописать, слезонеметь,
где в среброоблачной порфире
луны яснеющая медь
над ночью черною блистает;
где белокрылые сады
метелью летнею слетают
в обвороженные пруды;
где златоогненная благость
великолепствует и жжет,
где загорает смугло нагость:
блаженный в праздности народ!
В веках таинственней, чудесней
самозабвенный мир твердит
все те же пьянственные песни,
сильнее возгласов обид.
И самовидец дней жестоких,
былинки тростью шевеля,
блуждает в мире долуоких
и видит в первый раз: земля!
Неисследима коловратность
безумных лет. Где явь? где сон?
И на судеб земных превратность,
очнувшись, жалуется он.
Вот между белыми камнями
лучами высушенных плит
зеленой ящерицы пламя
из трещин пористых сквозит.
Спешит согреться и не слышит
ударов трости над собой:
так мелко, задыхаясь, дышит,
вкушая каменный покой...
И узнает в себе он эту
нечеловеческую страсть:
к окаменяющему свету,
дыханьем только став, припасть.
2