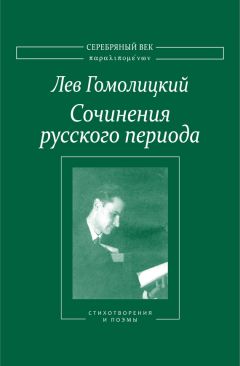Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихи. Переводы. Переписка. Том 2
Что касается Дуновения (Ямбов) и Ритма (дактилей), конечно, не от материала зависит художественность произведения (мрамор или полотно!). Не в том дело. И доказать можно всё, но только в осуществлении или вернее в результатах. Но я вообще начинаю охладевать к Тониту. Я слишком прост для него и многосторонен. Тонит держит меня в повышенном тоне, я могу им писать в наивысшем подъеме, что не только утомляет, но и разрушает (сокращает жизнь). Это не значит, чтобы я не мог писать им холодно, но тогда наруже весь мой технически запас: получается скелет вместо человека. А такие скелеты я не собираю и не выдаю за себя. Здесь мне неуютно и холодно. Как-то не по себе, точно в чужой стране, среди иностранцев, без родного слова, без родственного лица. Я не ставлю никаких граней, я не даю никаких обетов, м<ожет> б<ыть>, благополучно к 30 годам начну писать сонеты. Но пока меня влечет весна. Во мне всё закипает при мысле о творчестве. Замыслы мне не дают спать. Если ничто не помешает, эта весна будет великолепным взрывом, несущим новое, м<ожет> б<ыть>, не только мне одному.
Той же радости желаю и Скиту.
Всегда
вполне Ваш
Лев Гомолицкий.
10. Гомолицкий – Бему
29.III.27
Острог. Замок
Дорогой
Альфред Людвигович!
Обещал я прислать образец наших рукописных «изданий», но вижу, что сейчас это едва ли выполнимо. В прежнее время было больше усидчивости и условия pаботы (т.е. обстановка) – иные. Переписывали мы печатными буквами, причем достигли большого искусства. Но я убедился, что прямой почерк производит еще лучшее впечатление, тогда как почерк, идущий вкось и средн<его> размера, недопустим и уродлив для подобной переписки. Мы делали рисунки оригинальным способом, переводя со стекла (рисуя на стекле и сводя с него на простую бумагу). Можно такие рисунки делать тремя красками: получается очень изящно. Однако третий отпечаток уже настолько бледен, что на нем почти ничего нельзя разобрать. Это в скобках.
Посылаю пьеску, написанную в этом году. Весна всё что-то обещает, просветами является звучание, но цельного полнозвучного – нет.
Ради Бога, Альфред Людвигович! что слышно о сборнике? В тоске мы с Рафальским взываем к Вам, невольно обращая взгляды (или взоры) к Скиту. Встреча с Рафальским заставляет меня подтянуться и немного встряхнуться из нашего вечного сна. Мы собираемся пробить стену инертности и поставить ряд вечеров и (верх дерзости) захватить и сделать художественно и достойно день культуры. Но если всё это завершится благополучно – мы будем героями и Скит должен будет поставить нам памятник на какой-нибудь площади Праги.
Весь Ваш Лев Гомолицкий.
11. Гомолицкий – Бему
11.V.27 г.
Воистину Воскресе, дорогой Альфред Людвигович!
Благодарю Вас за подарок, который припасли для меня к светлому празднику – Ваше искреннее доброе письмо. Зачем Вы так осторожно подходите к оценке моих посылок, точно мне может причинить напряженность самое необходимое для меня и всегда приносящее пользу – Ваше откровенное мнение. То, что я так долго был предоставлен самому себе (без руководителей и без книг), так повредило мне и задержало развитие; и я теперь со страхом думаю – можно ли нагнать потерянное, не слишком ли я исковеркался, для того чтобы выправиться, наконец найдя долгожданную поддержку. Вы были правы, Альфред Людвигович, не одобрив ритмы. И хотя я всё же думаю, что в этой области можно тоже работать, тем не менее итоги этого периода для меня оказались плачевны: я разучился писать, звучать и молиться стихами. Сейчас я переживаю какой-то пугающий меня перелом. До сих пор периоды неписанья никогда не затягивались дольше двух месяцев. Когда же я не пишу, я не чувствую своего права на жизнь. Весна не оправдала ожиданий, впереди же год, требующий от меня нелюбимой, подавляющей работы. Ради нее придется оставить всё остальное, отложить в сторону незаконченные, недоделанные тетради, с хаосом всяческих сомнений, начинаний, неудовлетворений: всё написанное до сих пор, на что я возлагал столько надежд когда-то. В числе сомнений я оставляю недодуманное о завершенном пути в рус<ской> поэзии чуждого нам тонита, о слиянии с народным творчеством, о выработке новой стихотв<орной> формы, основанной на народной песне, стихе, ритме. Другая страстная надежда ввести рус<скую> поэзию в число мировых, поднять ее, дать ей огромную задачу, чтобы и на русском языке могла прозвучать строчка Шелли: поэты – непризнанные законодатели мира. Моя первая (вдохновенная) любовь давно требовала от меня своей эпопеи, и я боюсь, что если не сейчас, то уже никогда я не сделаю этого. В таком хаотическом виде я оставляю всё, чем до сих пор жил, чрез чтó смотрел на мир, окружающий и ожидающий меня у последнего дня.
С Рафальским мне было очень интересно познакомиться и очень полезно выслушать его замечания о Дуновении. Сонеты его мне очень понравились[188], хотя и поспорил немного с их автором. Я обратил его внимание, что сонеты рассчитаны на известную эрудицию и вкус и дают меньше пищи уму, чем это можно бы от них требовать. Последнюю мою присылку Раф<альский> тоже раскритиковал[189]. Я думал над ней и решил попытаться исправить. Первые страницы я вычеркнул и начал с: «По лугам, по пустырям разные травы...», закончил же словами: «неподвижной застывшей улыбкой». Везде вместо Миша написал я Мишино – мое, и в одном месте вовсе вычеркнул слово «Мишу». Разговор же его с ночью окружил скобками – надо что-то с ним еще сделать. М<ожет> б<ыть>, так и получится нечто лирическое. Рафальскому передал, что Вы просили, и обеспокоил его – так как он Вам писал и думает, что письмо не получилось. Спрашиваете, что буду делать летом? Хочу сделать последнюю попытку вырваться в атмосферу умственной работы, учиться, чтобы стать на ноги и в перспективе завоевать право опять вернуться к любимому труду. Значит, буду делать отчаянные усилия. Ближайшее: буду красить крыши, выправлять Дуновение, которое предстало передо мною во всех своих недочетах (есть безнадежные пробелы) и отнимать у себя время для дня рус<ской> культуры: декорировать зал с Рафальским, готовиться к реферату, который поручен мне; заниматься. Посылаю миниатюры по Вашей просьбе[190]. Привет Скиту. Искренне и всегда Ваш
Лев Гомолицкий.
12. Гомолицкий – Бему
28.VIII.27 г.
Дорогой Альфред Людвигович!
Как живут там в вашем далеком шумном мире? У нас покой полей. Я недавно вернулся из паломничества: посещал проф. Марцинковского (он знает Вас) в его родном селе[191]. Я сжился с местной природой и не променяю ни на что другое ее прозрачных далей, раскинутых лесов, волнующихся гигантских волн-холмов и этих мирных дорог – мягких, широких, как улицы столичного города. Это символ жизни – и счастлива та жизнь, для которой может служить символом вот такая дорога. Родное село профессора расположено на четырех холмах, группирующихся в форме подковы; холмы покрыты садами, как лесом (протяжение – 4 версты), так что издали видны только деревья, из которых выглядывает всего несколько крыш и каланча монастыря. А вокруг бескрайние поля – холмы, леса, просеки, дороги – вид верст на 20 кругом.
Я присутствовал на чтениях Евангелия, которые профессор устраивал в своем саду для соседей-крестьян, и слышал беседы крестьян, и убедился, что в народе есть большой интерес к религиозным темам, а Евангелие, пожалуй, единственная его точка соприкосновения с интеллигентом. Я не предполагал, что среди них есть люди, так много читавшие разных книг и знающие наизусть страницы из Библии.
Там я прожил неделю у знакомых – в семье священника в оживляющей атмосфере – потерянной теперь многими людьми – деятельной любви. Написал последнее свое стихотворение периода Дуновения, который должен же иметь свой конец, как и всё. Еще раз проработал этот период, начиная с 21 года, и составил второй сборник «К полудню», в котором многое незаметно вкрапляю и от 27 года. Так со спокойной совестью я откладываю эти две книжечки пока в левый угол стола для вылеживания и окончательной отделки. «К полудню» посылаю Вам в этом письме[192].
На днях говорил с Рафальским. Он точно не одобряет мое знакомство с Марцинковским и как бы с упреком моему настроению спрашивал: пишу ли я? Я не считаю заплаты на старом – «писанием»; писанием я называю творчество, помогающее мне идти вперед и раскрывающее передо мною новые перспективы, и потому я ответил, что ничего не пишу, а в оправдание спросил в свою очередь: а вы пишете? На что Сергей Милич мне отвечал тем же «нет». – Но почему? (ведь вот у вас значит должное настроение – жизненное, т.е. материалистическое). С.М. ответил – не о чем. (Я подумал: как же не о чем – ведь целый мир вокруг, жизнь во всем ее многообразии форм и идей – этого не сказал, так как С.М. имел очень смутный вид.)