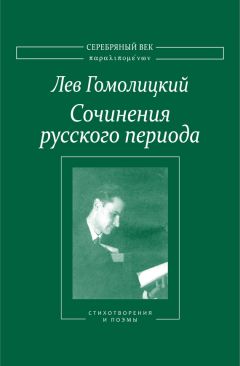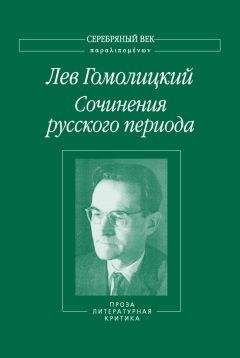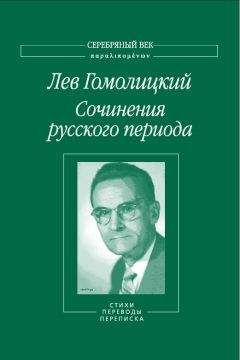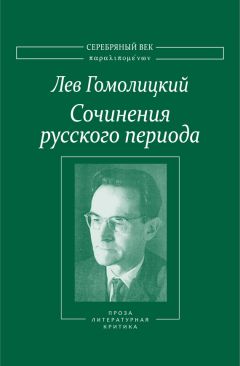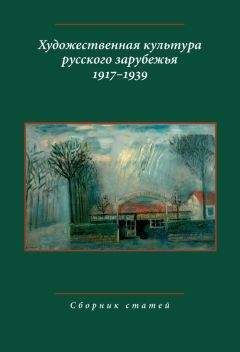Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1
Сдвиг этот вряд ли случаен. «Святочные октавы» представляют собой не просто мемуарно-автобиографический отчет о прошлом. Самое важное в них – пересмотр этого прошлого, суровая оценка собственного поэтического пути. Замечательно (хотя и вряд ли полностью справедливо) в этом плане признание автора о том, что в стихах он искал «тайн мистических заклятий», другими словами – что поэтическое творчество было в юности подчинено религиозно-мистическим исканиям, вторично по отношению к ним. Напоминая о давнишней и постоянной теме – о творчестве как борьбе с демонами, – оно позволяет поэту указать на контраст между «скучно-торжественными» бесами, одолевавшими автора в волынских полях, и пушкинскими «чертями». Разговор этот подводит к контроверсам, столь резко выразившимся при появлении молодого поэта в варшавском «Литературном Содружестве» в 1931 году, к его вере, что Дьявола победить можно не насилием, а «тихим подвигом». Но воспоминания эти вызваны полемикой не с тогдашними оппонентами Гомолицкого, а, напротив, с самим собой, судом над самим собой. Он казнит себя за то, что изменил тому «пути скудному, неизвестному и упорному», когда прельстился «черной» магией поэзии (октава 16) и оказался в плену «игры бесовской» (октава 18). О том, какому «выворачиванию наизнанку» подвергаются прежние ценности, свидетельствует неожиданное – и по поводу, и по содержанию – упоминание (октава 19) того, кто с такой глубокой симпатией и теплотой изображен героем рассказа «Смерть Бога». Ныне оказывается, что к науке Таро приобщил юношу этот «безумец». Замечательно, что, отведя столько места ей в тогда же писавшемся автобиографическом романе в стихах, Гомолицкий ни словом не выдал роковой в этом отношении роли прототипа «Боженьки». Но зато ему посвящено особое стихотворение, написанное, по-видимому, в период войны, – «Полевой отшельник» (№ 438). В «Святочных октавах» мелькают и другие эпизоды, избегнувшие «Совидца» (в версии 1940-1941 года), и это делает их гораздо более «исповедальным» документом (адресованным, очевидно, исключительно Философову), чем роман в стихах, в замысле обращенный к «обычной аудитории».
Философов скончался 5 августа 1940 года. Через неделю умер и Хирьяков. Обоих похоронили на православном кладбище на Воле. Спустя полтора года Гомолицкий писал В.Ф. Булгакову:
На могиле я часто бываю. Там у меня теперь не одна эта могила: оба Хирьяковы (Евгения Сем<еновна> и Ал<ександр> Мод<естович>) и могила моего деда, который был начальником Цехановского уезда. На могиле Д.В. Ф<илософова> стоит низкий крест северный с крышей (как он просил в посмертном письме) с деревянной табличкой (только имя и даты) и кивотом с копией (мною сделанной) Ланского Нерукотворного Спаса. Для меня эта могила как могила родного отца566.
Эти смерти создавали в русской среде пустоту вокруг Гомолицкого. Никаких связей с «Ревелем», с осени 1939 г. оказавшимся в сфере советского доминирования, а летом 1940 аннексированного Советским Союзом, или с «Парижем», после девяти месяцев войны захваченным Германией в июне 1940 г., не было. Оставалась лишь «Прага». Там, – как можно было судить по хронике в берлинской газете Новое Слово, – и в условиях немецкой оккупации теплилась русская культурная жизнь, функционировали научно-культурные учреждения и общества, маячили издательские возможности. В атмосфере германо-советского сближения А.Л. Бем даже выступил с докладом о поэзии Бориса Пастернака в Кружке по изучению современной русской литературы. Не знавший, что сулит ему завтрашний день, и занятый приведением творческих рукописей за два десятилетия в порядок с целью приготовления их к изданию в неопределенном, гадательном будущем, Гомолицкий отправил их в Прагу по двум разным адресам – А.Л. Бему и В.Ф. Булгакову. А.Л. Бем был едва ли не единственным человеком, который знал, в сущности, всё творчество Гомолицкого не только в его опубликованной форме, но, что важнее, и в рукописной. Сейчас, в сводном виде, оно должно было предстать его взгляду по-новому, и Гомолицкий в письме от 7 декабря 1940, которое звучало почти как «завещание» («Это два моих сборничка – единственные (все предыдущее не в счет)»), обращал его внимание на то, как по-новому в предполагаемом, гипотетическом издании должны были выглядеть юношеские стихи. Предупреждая 22 февраля 1941 г. Булгакова об отправке всего свода заново отредактированных для публикации стихотворений, начиная с ранних, он заявлял: «Этим был бы подведен итог всему. Теперь можно начинать заново, или перестать вовсе. Собираюсь, переписав, прислать всё это Вам в Музей – в надежде, что если не я (не удастся) осуществлю в таком виде издание, то м<ожет> б<ыть> кто-нибудь после меня заинтересуется моими скромными трудами».
«Отроческое» не механически воссоздавало поэтику 1920-1924 гг., но преломляло ее через позднее авторское восприятие этой поэтики. Существенно сокращая старые стихи и ревизуя их циклическую композицию, Гомолицкий не только возвращается к покинутой, казалось бы, и забытой навсегда квази-прозаической манере их записи, но и утрирует ее черты, делая, в частности, «переносы» из строку в строку более дикими, чем когда бы то ни было раньше. В этом можно усматривать реакцию зрелого поэта на чрезмерный – на нынешний его вкус – «традиционализм», «гладкость» стиховой речи («благополучие»), намерение сделать их эстетически шокирующими. Раскрепощающим фактором в этом смысле могли служить «графически-пунктуационные» особенности средневековых иллюминованных рукописей с их сплошным словесным текстом и неожиданными, на современный взгляд, переносами внутри слов. С такой «зрелой оценкой» соотносимо и выбранное – странное – название этого раздела собрания: «Отроческое», которое было одновременно и внешне-пренебрежительным, и снисходительным (или взывавшим к снисходительности). В него автор не включил стихов ни из сборника 1918, ни из сборника 1921 годов, каждый из которых имел больше прав на звание «отроческого», чем вошедшие тексты. Усилил Гомолицкий в новой редакции, по сравнению с исконной, и «варварскую орфографию», которой ныне пользовался и в «Притчах», и в «Совидце».
В течение долгих месяцев подтверждения о получении стихов и сопровождающего их письма от Бема не поступало. Оно пришло лишь к лету. Гомолицкий параллельно отправлял свои стихотворения в машинописи и В.Ф. Булгакову, с которым впервые стал переписываться еще в 1930 году, сведя вначале разговор, впрочем, на религиозно-философские темы и не касаясь поэтических занятий. Их эпистолярные отношения возобновлены были в 1936 году, когда В.Ф. Булгаков возглавлял основанный им и открывшийся в 1935 г. Русский Заграничный (Культурно-исторический) музей и Гомолицкий, не имевший постоянного, надежного пристанища, впервые отправил туда один список юношеского стихотворного «дневника» (очевидно – «Дуновения») заодно с собранными им материалами для «Словаря писателей русского Зарубежья» (письмо от 14 сентября 1936)567. В декабре 1940 – марте 1941 года поэт послал ему в музей тексты, подготовленные для задуманного собрания стихотворений и поэм («Цветник», «Ермий» и «Отроческое»), а также машинопись первых восьми глав романа в стихах, над которым продолжал работать. Присланное так понравилось Булгакову, что он известил Гомолицкого о желании прочесть доклад о всем его творчестве и запросил разрешения на публичное прочтение ненапечатанных вещей. Пикантность предложенной для доклада темы состояла уже в том, что предполагаемым слушателям не только рукописные сочинения, но и издания Гомолицкого были практически неизвестны и недоступны. Доклад был прочитан в Кружке по изучению современной русской литературы при Русском Свободном Университете 26 апреля 1941. Хотя вся «архаистическая» линия середины 1930-х гг. оставалась докладчику чужда, это был первый «монографический» очерк творчества Гомолицкого. Содержание доклада восстанавливается по наброскам к нему, сохранившимся в пражском архиве Булгакова и печатаемым в нашем издании в приложении к переписке его с поэтом. Неожиданным открытием и сильнейшим впечатлением для Булгакова стало знакомство с разделом «Отроческое». И по докладу, и по переписке видно, что В.Ф. Булгаков увидел в стихотворениях Гомолицкого по-настоящему духовно близкого ему человека. Он, как и сам автор, серьезно допускал возможность издания стихов Гомолицкого в Праге военного времени.
В нашем распоряжении нет достоверных сведений о жизни Гомолицкого во время войны. В то время как Д. С. Гессен (в устном сообщении) рассказывал о том, что Гомолицкий сторонился русского общества, С.Л.Войцеховский в 1969 году писал Глебу Струве о том, что «Л.Н. Гомолицкий пережил войну и – с помощью некоторых русских эмигрантов и Русского Комитета, служащим которого он состоял,– спас свою жену-еврейку»568. Сам поэт вспоминал, что, боясь за жену, избегал наведываться на довоенную квартиру. Ежедневная опасность, нависшая над обоими, Евой и Львом Николаевичем, при немецкой оккупации, обострилась с созданием 16 октября 1940 года варшавского гетто. Элементы «диалога» с женой в лирических стихах подготовлявшегося в ту пору собрания стихотворений отражают трагическую сложность положения. К этому опыту – прятанью Евы – относится фрагмент книги «Похищение Бавкиды» («Uprowadzenie Baucis»): «Всё это время я оберегал тебя от всего, что просачивалось из-за ограждения569. В тогдашней твоей ситуации ты не должна была знать такого – это не было только вопросом твоего спокойствия, подобное неведение, это было также одним из условий твоего спасения. Это входило в мой план, и поэтому я остерегался, дабы тебя не затронуло ничто из тех страшных ужасов»570. Жену спасти удалось, но всю жизнь его терзали угрызения совести, что они выжили, в то время как столько людей погибло. В эти дни тяжких испытаний и в атмосфере полной безнадежности Гомолицкий погрузился, совместно с польским ученым-синологом Витольдом Анджеем Яблонским, в чтение Конфуция в подлиннике, готовил перевод – строка за строкой – его трактата «Большая наука» с воспроизведением «всех особенностей стиля» и законченную первую главу намерен был в мае 1941 г. послать В.Ф. Булгакову (см. письмо от 15 и 24 мая 1941 г.), которому об уроках, извлеченных из Конфуция, впервые писал еще в сентябре 1930 г. из Острога.