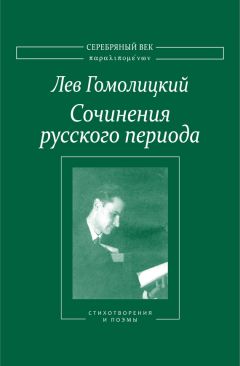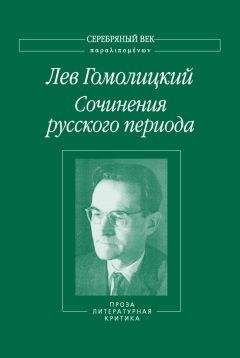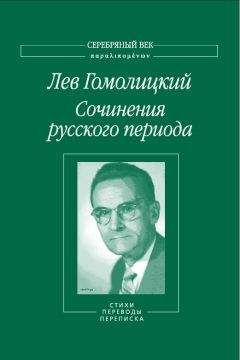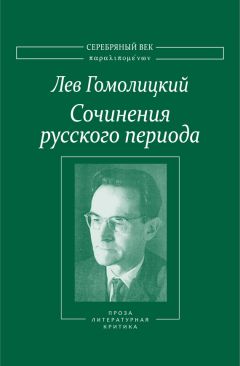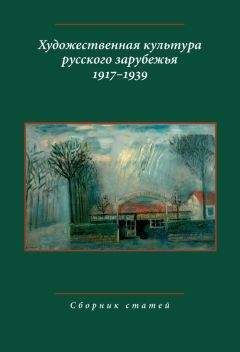Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1
Совидец, что означает свидетель, миниатюрная поэма об отказе от исторической роли человека, появился отдельным изданием под названием Эмигрантская поэма в Таллинне. Прототипом его героя была аутентичная личность отшельника, который послужил прототипом эпизодического персонажа в романе Гомолицкого Бегство, где «совидец» выступает под именем Федоренко. Отсюда также первоначальное название произведения550.
Комментарий этот служил «заметанию следов»: от читателя следовало скрыть, что в 1930-е годы «эмигрантским» текст был по отношению к советской России, и ассоциации надо было направить в сторону «бегства» в Варшаву из Острога в 1931 году (описанного в повести «Ucieczka»).
Возвращаясь, однако, к началу работы над романом в стихах (1938), отметим, что в ранней редакции автор намеревался, по-видимому, сделать его строфическим (как был строфическим «Евгений Онегин»)– по 12 строк в строфе. Но, во-первых, он не повсюду соблюдал это число, а во-вторых, оставлял куски в некоторых строфах незаписанными, рассчитывая, по-видимому, впоследствии заполнить лакуны. В свою очередь, возникает сомнение, действительно ли все лакуны эти должны были быть заполнены и не допускал ли автор обыгрывания (как у Пушкина) приема «пропущенных» строк и строф – «эквивалентов текста», как их называл Юрий Тынянов. Установка на «поливариантность» выразилась в альтернативных вариантах первой главы романа и намерении автора оба варианта обнародовать вместе, один рядом с другим. При этом второй вариант отличался от первого использованием повествования от первого лица (Ich-Erzählung), что изменяло стилистику произведения в целом. Игра с Ich-Erzählung этой главой не ограничивалась – соскальзывания в нее случаются и в других главах данной редакции романа и свидетельствуют о колебаниях автора относительно выбора стратегии: идти по линии повествования в первом или в третьем лице. Автобиографический рассказ сосредоточен на процессе интеллектуального созревания и посвящен главным явлениям, оказавшим на него воздействие, – древнеиндийская и древнекитайская философия, буддизм и иудаизм. По этой вещи можно видеть, как «архаистическая» струя у Гомолицкого борется с «пушкинской» и отступает перед ней. Из Пушкина ближе всего Гомолицкому теперь произведения «онегинского» цикла – от «Графа Нулина» до «Домика в Коломне», где свобода разговора («болтовня») повествователя позволяла легко сочетать бытовые сцены и мотивы с темами метафизическими, подвергая последние шутливо-ироническому снижению. «Пушкинскими» по характеру являются «метапоэтические» отступления, примером которых выступает первая строфа «материалов к III главе», предсказывающая насмешки и нападки на автора за выбор такой странной формы, как «роман в стихах»551. Фабульная канва сводится к характеристике философско-религиозных исканий, которые здесь еще не обретают того драматически-богоборческого накала, как позднее в «Совидце», к теме первой любви, здесь воплощенной в описании отношений с дочерью книжника (Евой, будущей женой), к отчету о бездомности и скитальчестве автора по прибытии в Варшаву, о его «черной работе» в ту пору на Висле. В «материалах к III главе» один раздел был отведен истории кружка «Домик в Коломне». Позднее он был изъят из романа и образовал самостоятельное произведение, включенное в «Ермий» (см. № 249). И, наконец, в пятой главе, – последней на этом этапе писания романа, – помимо рассказа о приезде Евы в Варшаву (в 1932 году) и их встрече на вокзале, мелькает тема, являвшаяся главной в поэме «В нави зрети» и вернувшая себе доминирующую роль в «Совидце»,– ход времени и вторжение «нави» в «настоящее». В «Романе в стихах» 1936 года нет эпизoда с «уединизмом» и уединистическим собором, нет никаких намеков и на роль М.М. Рекало в жизни автора (хоть они и промелькнули в рукописях «Сотом вечности»).
Это позволяет оценить кардинальные различия между первоначальным замыслом романа и тем видом, который он приобрел в «Совидце». Новая версия полнее всего представлена в «черновой», по словам автора, машинописи, экземпляры которой были отосланы в Прагу по двум адресам – А.Л.Бему и В.Ф. Булгакову – в один и тот же день, 7 декабря 1940 года. Эту новую версию произведения следует рассматривать в контексте общественно-политической реальности, воцарившейся в промежутке между 1 сентября 1939 года и зимой 1940-41 гг., за несколько месяцев до перелома в мировой войне, обозначенного вторжением фашистской армии в СССР. Были завершены восемь глав. По решению Гомолицкого, всего в романе должно было быть десять глав. Оставалось закончить девятую (она была готова вчерне к июню 1941) и написать последнюю, десятую (набросок начала ее был послан Булгакову 5 марта 1941, но затем отменен). Новый текст получил название «Совидец», и его предварял эпиграф, взятый из тютчевского «Цицерона» – «высоких зрелищ зритель». Не только разбиение на главы, но всё содержание поэмы, по сравнению с 1938 годом, подверглось решительному пересмотру. Идея ведения повествования от первого лица была отброшена; напротив, всё автобиографическое содержание было воплощено в разговоре об «отделенном от автора» протагонисте. Начало повествования было отнесено в глубь истории, к исходу XIX столетия, в молодые годы родителей. Нельзя не усмотреть в таком неожиданном расширении хронологической перспективы «Романа в стихах» реакцию автора («сына Филемона и Бавкиды») на утрату связи с родителями с первых дней войны. Действие помещено в губернский город Пензу и приурочено к моменту их помолвки. Это событие, как и бóльшая часть других, описываемых в произведении, спроецировано на тему управления богами ходом человеческой жизни и на приковывавшую поэта с середины 1930-х годов тему Рода. Так вводятся мотивы предопределенности и предназначенности судьбы, темы отступничества и исторического возмездия, продолжившие «диалог» с Блоком, предпринятый Гомолицким в поэме «Варшава».
В отличие от «Романа в стихах» 1938 года, первая глава «Совидца» поражает обилием персонажей. Введенные фамильно-генеалогические сведения сообщают о деде по матери (отце Адели), что он католик, «с Литвы мицкевичевской родом», оказавшийся в Пензе из-за своего деда, сосланного туда из-за участия в польском восстании 1863 года. За то, что он отдался жизни частной и женился по любви на русской, он был проклят матерью за ренегатство и до смерти хранил в шкатулке материнское письмо с отречением от него. Перекликалась с этим мотивом «трещин» в семье и история родителей поэта: отец и брат невесты отрицательно отнеслись к ее избраннику, тогда как мать Николая Осиповича, принадлежавшая к аристократическому роду, занимавшему высокое положение в бюрократической системе царской России, считала сватовство сына мезальянсом («их род со знатью лишь роднится») и разрешения на брак с Аделью не дала. Эти две истории создавали параллель между «отступничеством» Льва Николаевича (в «фантастичнейшем из браков» с Евой) и «отступничеством» предков в его роду.
Роман насквозь прошит «пушкинскими» ассоциациями; они ощутимы в самом тоне повествователя, в подчеркивании его дистанцированности от описываемых событий, в ироническом обыгрывании серьезных и даже трагических эпизодов, в установке на разговорный стиль, на беседу с читателем, подталкивающую к лирическим отступлениям. Наиболее откровенно параллель с Пушкиным выступает в эпизоде святочных гаданий Адели накануне сватовства Николая Осиповича – эпизоде, смоделированном прямо на 5-ю главу «Евгения Онегина» и затем всплывающем несколько раз по ходу романа, предоставляя подтверждения предсказанному и объясняя скрытый смысл происходящего. Первая глава заканчивается описанием настенных часов в доме у снохи в Варшаве552, куда Адель была вызвана из Пензы перед рождением ребенка, и размышлениями автора о предназначении своего протагониста:
и призван он – совидец страхов
уж к небожителям на пир.
Последняя строка главы отсылала к тому же стихотворению Тютчева, что и эпиграф, образовывая композиционное «кольцо».
Рождение главного персонажа и раннее детство сопровождается во второй главе грозными астрологическими и житейскими предзнаменованиями, неожиданно оборачивающимися, однако, всякий раз благополучным исходом. Так, будущий «совидец страхов» появляется на свет с неоткрывающимися глазами, «со сросшеюся пленкой век». Доктор, принимающий роды, вооружается, к ужасу матери-роженицы, ножницами, но обходится без них, просто-напросто раздвинув веки младенца пальцами. Подобным образом совершается и «первая буря» в жизни мальчика: во время уличных беспорядков в Петербурге (1905 г.) в квартире случайно вспыхивает пожар, который тушит только что пришедший вечером со службы отец. Следующий грозный эпизод имеет место во время прохождения кометы Галлея (1910-1911). В Петербург к сыну умирать приезжает бабушка из Варшавы, и сразу после ее смерти маленький Лев видит свой первый в жизни сон. В зловещем этом сне неживая бабушка, сидящая в кресле, удваивается, и глаза ее «пылают», а когда разбуженный и успокоенный родителями мальчик снова засыпает, то к нему возвращается всё тот же сон. Этот эпизод, связывающий воедино трансформируемые мотивы «сросшейся» при рождении «пленки век» и погашенного отцом «пожара», вводит столь важную в этом произведении, как и во всем творчестве Гомолицкого второй половины 1930-х годов, тему общения с загробным миром, контактов «нави» с живущими.