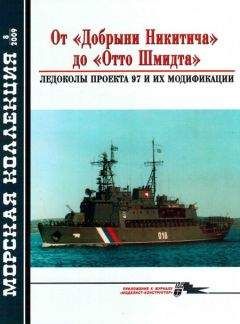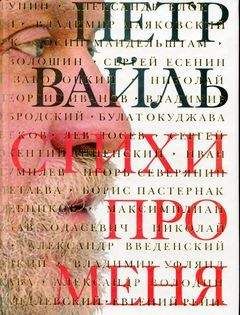Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
«Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали…»
Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали.
Я их сам не узнал. Я не думал, что это про то.
Полуночница, умница, черная пчелка печали,
не сердись на меня. Посмотри на меня с добротой.
Как чудесно и жутко стать сразу такими родными!
Если только захочешь, всю душу тебе отворю.
Я твержу как пароль каждым звуком хмелящее имя,
я тревожной порой опираюсь на нежность твою.
Не цветными коврами твой путь устилала усталость,
окаянную голову северный ветер сечет.
Я не встречусь с тобой. Я с тобой никогда не расстанусь.
Отдохни в моем сердце, покуда стучится еще.
Задержись хоть на миг – ты приходишь с таким опозданьем.
Пусть до смертного часа осветит слова и труды
каждый жест твоих рук, обожженных моим обожаньем.
Чудо жизни моей, я в долгу у твоей доброты.
«Зову тебя, не размыкая губ…»
Зову тебя, не размыкая губ:
– Ау, Лаура!..
Куда ни скажешь, в пекло и в тайгу
пойду понуро.
Мне свет твой снится в дымке снеговой,
текуч и четок.
Я никогда, нигде и никого
не звал еще так.
Давным-давно, веселый и земной,
я верил в чудо,
но разминулось милое со мной.
Мне очень худо.
И не страшна морская круговерть,
не дорог берег.
Не на крутых камнях я встречу смерть,
а в добрых дебрях.
Исполню все, чего захочешь ты,
правдив и целен,
хоть наши судьбы розны и чужды,
как юг и север.
Прими ж привет от бывшего шута
и балагура.
И пусть звучит у времени в ушах:
– Ау, Лаура!..
«Неужто все и впрямь темно и тошно…»
Неужто все и впрямь темно и тошно,
и ты вовек с весельем незнаком?
А вот костер – и варится картошка,
и пар плывет над жарким казанком.
Запасы счастья засветло пополни,
а злость и зависть сядут под арест.
О, что за снедь ликует на попоне:
редиска с грядки, первый огурец!
И мед земли поет в твоих ладонях,
сверкает, медлит, шелков и парчов,
и, курс держа на свой дощатый домик,
спешит семья стремительных скворцов.
Каким пером ту прелесть опишу я,
где взять слова, каких на свете нет,
когда над всем, блистая и бушуя,
царит и дышит яблоневый цвет,
и добрый ветер, выпрыгнув из чащи,
ласкает ветки, листьями звеня,
и добрый друг, так родственно молчащий,
сидит с тобой у доброго огня.
«Январь – серебряный сержант…»
Январь – серебряный сержант,
давно отбой в казармах ротных,
а не твои ли в подворотнях
снегами чёботы шуршат?
Не досчитались нас с тобой.
Мы в этот вечер спирт лакали.
Я чиркал спичкой – и в бокале
являлся чертик голубой.
Мне мало северного дня
дышать на звездочки мозаик.
Ведь я – поэт, а не прозаик,
хранитель Божьего огня.
Хотя, по счастию, привык
нести житейскую поклажу,
но с братом запросто полажу,
рубая правду напрямик…
Ан тут хозяюшка зима,
чье волшебство со счастьем смежно,
лохмато, северно и снежно,
меня за шиворот взяла.
Ей не впервой бродяг держать,
ворча сквозь смех о позднем часе,
и пошкандыбал восвояси
январь – серебряный сержант.
Теперь морозцем щеки жги,
святой снежок в ладошах комкай.
В ночи, космической и колкой,
шуршат сержантовы шаги.
«На мой порог зима пришла…»
На мой порог зима пришла,
в окошко потное подула.
Я стыну зябко и сутуло,
грущу – и грусть моя грешна.
И то ли счастье, то ли сон
на мой порог, как снег, упали,
и пахнет милыми губами
мое горящее лицо.
Я жарюсь в чертовых печах.
(Как раз за лириков взялись там!)
Я нищетой до дыр залистан.
О, не читай меня, печаль.
Ты ж, юность, смейся и шали,
с кем хочешь будь, что хочешь делай.
Метелью праздничной и белой
во мне шумят твои шаги.
Душе и сладко, и темно,
ей не уйти и не остаться, –
и трубы трепетные счастья
по-птичьи плачут надо мной.
Рыбацкая доля
Да вправду красна ли, да так уж проста ли
рыбацкая доля, рыбачья беда?
Их лодки веками в раздолье врастали.
Их локти разъела морская вода.
Гремучие ветры их кости ковали,
плакучее пламя провялило плоть.
Им до смерти снятся бычки и кефали.
Им ходится трудно, им хочется плыть.
Их вольные души сгорят и простятся
на темной волне, не оставив следа.
Недаром в них кротость и крепость крестьянства
с рабочей красой необычно слита…
А вы вот бывали в рыбачьем поселке,
где воздух, что терен, от зноя иссох,
где воздух серебрян и густ от засолки,
где сушатся сети и мокнет песок?..
Шальные шаланды штормами зашвыривает.
Крикливые чайки тревожно кружат.
Крутая волна затекает за шиворот,
и весла, как пальцы в суставах, хрустят.
Я меры не знаю ночному старанью –
старинные снасти крепить на ходу,
чтоб утречком выплеснуть лодки с таранью
и бросить рыбеху рябому коту.
«В декабре в Одессе жуть…»
В декабре в Одессе жуть:
каплет, сеет, брызжет, мочит.
В конуре своей сижу.
Скучно. Мокро. Нету мочи.
В голове плывут слова.
Гололедица и слякоть.
Ты вези меня, трамвай,
чтоб в ладони не заплакать.
Что за черт? Да это ж Дюк!
А за что – забыла память.
И охота же дождю
по панелям барабанить.
До берез не доберусь:
на дорогу треба денег.
У меня на сердце грусть
от декабрьской дребедени.
День мой тошен и уныл –
наказание Господне…
До тебя – как до луны.
Что ты делаешь сегодня?
Одесские скворцы
Кому – сияла синева
и солнце шкуру красило, –
а я у моря зимовал,
раз не дорос до классика.
…Который час, который день
сижу в гостях у детства я?
Как солнце на сковороде,
шкварчат скворцы одесские.
Такого дива я не знал.
Зима, поди, недели две,
мороз сверкает, – а весна
беснуется на дереве.
Сюда с лесов их север сдул,
согнал их стаю резвую.
Скворцов услышишь за версту.
Скворцы вовсю свирепствуют.
Мильоны правят ритуал
на теплый юг манящихся.
Обкакав с веток тротуар,
манежится монашество.
Бегут прохожие в обход,
не то они напустятся.
Скворцы встречают Новый год,
где банк стоит на Пушкинской.
На черта скворушке камин?
Ни служб, ни паспортин ему.
Я тоже холодом гоним,
я беден по-скворчиному.
Мне скверно спится от скворцов.
Вот загрустил о детстве я,
и все настойчивей сквозь сон
шкварчат скворцы одесские.
«На зимнем солнце море, как в июле…»
На зимнем солнце море, как в июле.
Я первый раз у моря зимовал.
Во рту пылали хвойные пилюли.
Светлым-светло сверкала синева.
Но в том сверканье не было отрады,
в нем привкус был предчувствий и потерь,
и было грустно с глиняной эстрады
смотреть в блиставший холодом партер.
Волна плескалась медленно и вяло,
лизнет песок и пятится опять,
как будто в лоб кого-то целовала
и не хотела в губы целовать.
«Про то, что сердце, как в снегу…»
Про то, что сердце, как в снегу,
в тоски таинственном настое,
как Маяковский, не смогу,
а под Есенина не стоит.
Когда б вмешательством твоим
я был от горшего избавлен,
про все, что на сердце таим,
я б написал, как Чичибабин.
Да вот беда и канитель:
его нет дома, он в отлучке,
дверь заперта, пуста постель,
и жар-перо ржавеет в ручке.
«Я по тебе грущу, духовность…»
Я по тебе грущу, духовность,
не робот я и не злодей,
тебе ж, духовность, охо-хо в нас,
и ты уходишь из людей.
Весь Божий свет сегодня свихнут,
и в нем поэзия одна
как утешение и выход
слепому времени дана.
Да не разнюхает начальник,
а и, разнюхав, не поймет,
о чем очей ее печальных
над повседневностью полет!
Эй, кто не свиньи и не волки,
кто держит небо на плечах,
давайте выпьем рюмку водки
за землю в травах и лучах,
за моря плеск и счет кукушкин,
за человеческую честь,
за то, что есть у сирых Пушкин
и Мандельштам у кротких есть!
Се аз храню на свете белом
свободных лириков союз,
не покорюсь грядущим бедам,
грядущей лжи не убоюсь.
Берите впрок мои тетрадки:
я весь добра и света весть,
не потому, что все в порядке,
а потому, что в мире есть
ПОЭЗИЯ.
«Одолевали одолюбы…»