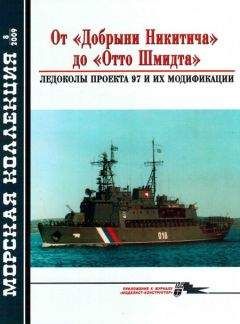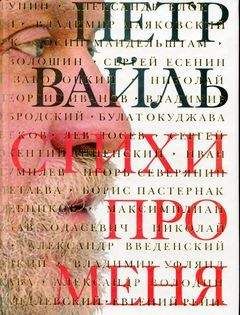Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
Приготовление борща
Моя подруга варит борщ.
Неповторимая страница!
Тут лоб как следует наморщь,
чтоб за столом не осрамиться.
Ее глазенушки светлы.
Кастрюля взвалена на пламя,
и мясо плещется в компаньи
моркови, перца и свеклы.
На вкус обшарив закрома,
лохматая, как черт из чащи,
постой, пожди, позаклинай,
чтоб получилось подходяще.
Ты только крышку отвали,
и грянет в нос багряный бархат,
куда картошку как бабахнут
ладони ловкие твои.
Ох, до чего ж ты хороша,
в заботе милой раскрасневшись
(дабы в добро не вкралась нечисть),
душой над снедью вороша.
Я помогаю чем могу,
да только я умею мало:
толку заправочное сало,
капусту с ляды волоку.
Тебе ж и усталь нипочем,
добро и жар – твоя стихия.
О, если б так дышал в стихи я,
как ты колдуешь над борщом!
Но труд мой кривду ль победит,
беду ль от родины отгонит,
насытит ли духовный голод,
пробудит к будням аппетит?..
А сало, желтое от лет,
с цибулей розовой растерто.
И ты глядишь на Божий свет
хотя устало, но и гордо.
Капуста валится, плеща,
и зелень сыплется до кучи,
и реет пряно и могуче
благоухание борща.
Теперь с огня его снимай
и дай бальзаму настояться.
И зацветет волшебный май
в седой пустыне постоянства.
Владыка, баловень, кощей,
герой, закованный в медали,
и гений – сроду не едали
таких породистых борщей.
Лишь добрый будет угощен,
лишь друг оценит это блюдо,
а если есть меж нас иуда, –
пусть он подавится борщом!..
Клубится пар духмяней рощ,
лоснится соль, звенит посуда…
Творится благостное чудо –
моя подруга варит борщ.
Ода русской водке
Поля неведомых планет
души славянской не пленят,
но кто почел, что водка яд,
таким у нас пощады нет.
На самом деле ж водка – дар
для всех трудящихся людей,
и был веселый чародей,
кто это дело отгадал.
Когда б не нес ее ко рту,
то я б давно зачах и слег.
О, где мне взять достойный слог,
дабы воспеть сию бурду?
Хрустален, терпок и терпим
ее процеженный настой.
У синя моря Лев Толстой
ее по молодости пил.
Под Емельяном конь икал,
шарахаясь от вольных толп.
Кто в русской водке знает толк,
тот не пригубит коньяка.
Сие народное питье
развязывает языки,
и наши думы высоки,
когда мы тяпаем ее.
Нас бражный дух не укачал,
нам эта влага по зубам,
предоставляя финь-шампань
начальникам и стукачам.
Им не узнать вовек того
невосполнимого тепла,
когда над скудостью стола
воспрянет светлое питво.
Любое горе отлегло,
обидам русским грош цена,
когда заплещется она
сквозь запотевшее стекло.
А кто с вралями заодно,
смотри, чтоб в глотку не влили:
при ней отпетые врали
проговорятся все равно.
Вот тем она и хороша,
что с ней не всяк дружить горазд.
Сам Разин дул ее не раз,
полки боярские круша.
С Есениным в иные дни
история была такая ж –
и, коль на нас ты намекаешь,
мы тоже Разину сродни.
И тот бессовестный кащей,
кто на нее повысил цену,
но баять нам на эту тему
не подобает вообще.
Мы все когда-нибудь подохнем,
быть может, трезвость и мудра, –
а Бог наш – Пушкин пил с утра
и пить советовал потомкам.
Сонеты к картинкам[4]
1. Паруса
Есть в старых парусах душа живая.
Я с детства верил вольным парусам.
Их океан окатывал, вздувая,
и звонкий ветер ими потрясал.
Я сны ребячьи видеть перестал
и, постепенно сердцем остывая,
стал в ту же масть, что двор и мостовая, –
сказать по-русски – крышка парусам.
Иду домой, а дома нынче – стирка.
Душа моя состарилась и стихла.
Тропа моя полынью поросла.
Мои шаги усталы и неловки,
и на простой хозяйственной веревке
тряпьем намокшим сохнут паруса.
2. Вечером с получки
Придет черед, и я пойду с сумой.
Настанет срок, и я дойду до ручки.
Но дважды в месяц летом и зимой
мне было счастье вечером с получки.
Я набирал по лавкам что получше,
я брился, как пижон, и, бог ты мой,
с каким я видом шествовал домой,
неся покупки вечером с получки.
С весной в душе, с весельем на губах
идешь-бредешь, а на пути – кабак.
Зайдешь – и все продуешь до полушки.
Давно темно, выходишь, пьяный в дым,
и по пустому городу один –
под фонарями, вечером, с получки.
3. На сумеречной лестнице
В вечерний час на сумеречной лестнице
стою, плечом о стенку опершись.
Где был – там нет. По лестнице не лезется.
В кармане руки. Злобен и ершист.
Ну что, приятель? – думаю. – Держись.
Все трын-трава, пусть сердце перебесится.
А на душе – хоть в пропасть, хоть повеситься.
Ночь, никого – и лестница. Эх, жизнь!
Ни добрых слов, ни красного денька.
Все – ничего, водилась бы деньга.
Была б деньга – пожить бы хоть с полмесяца.
Найти б себя, поверить бы другим.
Смертельно грустно, как там ни прикинь,
в вечерний час на сумеречной лестнице.
4. Постель
Постель – костер, но жар ее священней:
на ней любить, на ней околевать,
на ней, чем тела яростней свеченье,
душе темней о Боге горевать.
У лжи ночной кто не бывал в ученье?
Мне все равно – тахта или кровать.
Но нет нигде звезды моей вечерней,
чтоб с ней глаза не стыдно открывать.
Меня постель казенная шерстила.
А есть любовь, черней, чем у Шекспира.
А есть бессонниц белых канитель.
На свете счастья – ровно кот наплакал,
и ох как часто люди, как на плаху,
кладут себя в постылую постель.
5. Осень
О синева осеннего бесстыдства,
когда под ветром, желтым и косым,
приходит время помнить и поститься
и чад ночей душе невыносим.
Смолкает свет, закатами косим.
Любви – не быть, и небу – не беситься.
Грустят леса без бархата, без ситца,
и холодеют локти у осин.
Взывай к рассудку, никни от печали,
душа – красотка с зябкими плечами.
Давно ль была, как птица, весела?
Но синева отравлена трагизмом,
и пахнут чем-то горьким и прокислым
хмельным-хмельные вечера.
6. Что ж ты, Вася?
Хоть горевать о прошлом не годится,
а все ж скажу без лишней чепухи:
и я носил погоны пехотинца
и по тревоге прыгал в сапоги.
У снов солдатских вздохи глубоки.
Узнай, каков конец у богатырства, –
свистя душой, с высотки покатиться
и поползти за смертью в лопухи.
А в лопухах, служа червям кормежкой, –
лихой скелет с распахнутой гармошкой,
в ее лады запутался осот.
Тряся костьми и в хохоте ощерен,
в пустые дырки смотрит чей-то череп
и черным ртом похабщину несет.
7. Старик-кладовщик
Старик-добряк работает в райскладе.
Он тих лицом, он горестей лишен.
Он с нашим злом в таинственном разладе
весь погружен в певучий полусон.
Должно быть, есть же старому резон,
забыв лета и не забавы ради,
расколыхав серебряные пряди,
брести в пыли с гремучим колесом.
Ему – в одышке, в оспе ли, в мещанстве –
кричат людишки: «Господи, вмешайся!
Да будет мир избавлен и прощен!»
А старичок в ответ на эту речь их
твердит в слезах: «Да разве я тюремщик?
Мне всех вас жаль. Да я-то тут при чем?»
8. Хорал
Дай заглянуть в глаза твои еще хоть.
Скажи хоть раз, что ты была не сном…
Под сапогами, черными, как деготь,
кричит заря в отчаянье смешном.
Святые спят. Их плачем не растрогать.
Перепились на пиршестве ночном.
Лишь чей-то возглас: «Господи, начнем!»
И детский крик. И паника. И похоть.
На небесах горит хорал кровавый.
Он сбрасывает любящих с кроватей.
Он рушит стены, грозен и коряв.
Кричит в ночи раздавленное детство,
и никуда от ужаса не деться,
пока гремит пылающий хорал.
9. Племя лишних
Мы – племя лишних в городе большом
с дворами злыми, с улицами старыми,
где люди глушат водку и боржом,
и врут в глаза, и трусят, как при Сталине.
Сто стукачей к нам сызмала приставлены,
казенный дом на тысячу персон.
А мы над всеми верами поржем.
А сами вовсе верить перестали мы.
Мы – племя лишних в этой жизни чертовой,
и мы со зла кричим: «А ну, еще давай!»
Нас давит век тяжелый, как булыжник.
В ракетных свистах да в разрывах атомных
мы – племя лишних, никому не надобных.
И мы плюем на все. Мы – племя лишних.
10. Не вижу, не слышу, знать не хочу