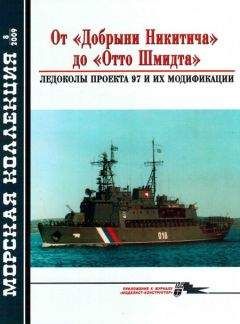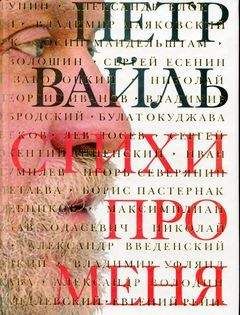Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
«Когда весь жар, весь холод был изведан…»
Когда весь жар, весь холод был изведан
и я не ждал, не помнил ничего,
лишь ты одна коснулась звонким светом
моих дорог и мрака моего.
В чужой огонь шагнула без опаски
и принесла мне пряные дары.
С тех пор иду за песнями запястий,
где все слова значимы и добры.
Моей пустыни холод соловьиный,
и вечный жар обветренных могил,
и небо пусть опустятся с повинной
к твоим ногам, прохладным и нагим.
Побудь еще раз в россыпи сирени,
чтоб темный луч упал на сарафан,
и чтоб глаза от радости сырели,
и шмель звенел, и хмель озоровал.
На свете нет весны неизносимой:
в палящий зной поляжет, порыжев,
умрут стихи, осыплются осины,
а мы с тобой навеки в барыше.
Кто как не ты тоску мою утешит,
когда, листву мешая и шумя,
щемящий ветер борозды расчешет
и затрещит роса, как чешуя?
Я не замерзну в холоде декабрьском
и не состарюсь в темном терему,
всем гулом сердца, всем моим дикарством
влюбленно верен свету твоему.
«Без всякого мистического вздора…»
Без всякого мистического вздора,
обыкновенной кровью истекав,
по-моему, добро и здорово,
что люди тянутся к стихам.
Кажись бы, дело бесполезное,
но в годы памятного зла
поеживалась Поэзия, –
а все-таки жила!
О, сколько пуль в поэтов пущено,
но радость пела в мастерах,
и мстил за зло улыбкой Пушкина
непостижимый Пастернак.
Двадцатый век болит и кается,
он – голый, он – в ожогах весь.
Бездушию политиканства
Поэзия – противовес.
На колья лагерей натыканная,
на ложь и серость осерчав,
поворачивает к Великому
человеческие сердца…
Не для себя прошу внимания,
мне не дойти до тех высот.
Но у меня такая мания,
что мир Поэзия спасет.
И вы не верьте в то, что плохо вам,
перенимайте вольный дух
хотя бы Пушкина и Блока,
хоть этих двух.
У всех прошу, во всех поддерживаю –
доверье к царственным словам.
Любите Русскую Поэзию.
Зачтется вам.
Воспоминание об Эренбурге
От нечестивых отмолчится,
а вопрошающих научит
Илья Григорьевич, мальчишка,
всему великому попутчик.
Ему, как пращуру, пращу бы –
и уши ветром просвистите.
Им век до веточки прощупан,
он – озорник и просветитель.
Чтоб не совела чайка-совесть,
к необычайному готовясь,
чтоб распознать ихтиозавра
в заре светающего завтра.
Седьмой десяток за плечами,
его и жгли, и запрещали,
а он, седой, все так же молод –
и ничего ему не могут.
Ему сопутствуют, как видно,
едва лишь путь его начался,
любовь мазил и вундеркиндов
и подозрительность начальства.
Хоть век немало крови попил,
а у жасмина нежен стебель,
и струйки зыблются, и тёпел
из трубки высыпанный пепел.
И мудрость хрупкая хранится,
еще не понятая всеми,
в тех разношерстных, чьи страницы
переворачивает время.
И чувство некое шестое
вбирает мира темный трепет.
Он знает более, чем стоит,
и проговариваться дрейфит.
Я все грехи его отрину
и не презрю их по-пустому
за то, что помнит он Марину
и верен свету золотому.
Таимой грустью воспаривши
в своем всезнанье одиноком,
легко ли помнить о Париже
у хмурого Кремля под боком?
Чего не вытерпит бумага!
Но клятвы юности исполнит
угомонившийся бродяга,
мечтатель, Соловей-разбойник.
Сперва поэт, потом прозаик,
неистов, мудр, великолепен,
он собирает и бросает,
с ним говорят Эйнштейн и Ленин.
Он помнит столько погребенных
и, озарен багряным полднем,
до барабанных перепонок
тревогой века переполнен.
Не знаю, верит ли он в Бога,
но я люблю такие лица –
они святы, как синагога.
Мы с ним смогли б договориться.
Пушкин – один
А личина одна у добра и у лиха,
всё живое во грех влюблено, –
столько было всего у России великой,
что и помнить про то мудрено.
Счесть ли храмы святые, прохлады лесные,
грусть и боль неотпетых гробов?
Только Пушкин один да один у России –
ее вера, надежда, любовь.
Она помнит его светолётную поступь
и влюбленность небесную глаз,
и, когда он вошел в ее землю и воздух,
в его облик она облеклась.
А и смуты на ней, и дела воровские,
и раздолье по ним воронью, –
только Пушкин один да один у России –
мера жизни в безмерном краю.
Он, как солнце над ней, несходим и нетленен,
и, какой бы буран ни подул,
мы берем его том и душою светлеем,
укрепляясь от пушкинских дум.
В наши сны, деревенские и городские,
пробираются мраки со дна, –
только Пушкин один да один у России,
как Россия на свете одна.
Так давайте доверимся пушкинским чарам,
сохраним человечности свет,
и да сбудутся в мире, как нам обещал он,
Божий образ и Божий завет.
Обернутся сказаньем обиды людские
на восходе всемирного дня, –
только Пушкин один да один у России,
как одна лишь душа у меня.
Сонет с Маршаком
В краю, чье имя – радости синоним,
на берегу, зеленом и морском,
смутясь до слез и в трепете сыновнем,
мне говорить случилось с Маршаком.
Я час провел с веселым мастаком,
как сердце, добрым, вовсе не сановным.
Сияло детство щедрое само в нем
и проливалось солнечным стихом.
Седым моржом наморщенный Маршак
судил мой жар, стараясь быть помягче.
Бесценный клад зарыт в моих ушах.
Ему б – мой век, а мне б – его болячки.
И что мне зной, и что мне мошкара?
Я горд, как черт, что видел Маршака.
Черное море
Лишь закрою глаза –
и, как челн, меня море качает,
и садится на губы
нагая и теплая соль.
Не отцовством объят,
а от солнца я пьян и от чаек.
О, как часто мне снится
соленый и плещущий сон!
Дразнит прозу мою,
брызжет в раны веселый обидчик,
чья за мутью и зеленью
так изумительна синь.
То ли хлопья летят,
то ли птицы хлопочут о пище, –
то порхают барашки,
которых вовек не сносить.
Ну о чем бормотать?
Ну какого рожна кипятиться?
Я горю на огне.
Я – роса. Я ничем не гнетусь.
Я лежу на рядне.
Породниться бы нам, кипарисы!
Солнце плавит плоды
и колышет в ладонях медуз.
Разверзаются недра,
что вечно свежи и не дряблы.
Ходят нежные негры.
Здесь камень до ночи нагрет.
Пахнет йодом и рыбой.
И ёкает сердце над рябью,
где хохочущий повар
готовит чертям винегрет.
Отоспимся потом.
До потемок позябнем от зыби.
По ночам оно дышит,
как скинувший бурку джигит.
Море хлюпает в мол.
Море мокрые камешки сыплет.
Им никто не насытится.
Море и мертвых живит.
И смывает всю муть.
И смеется светло и ломяще.
И прозрачно слоится.
А может и скалы молоть.
И возьму я с собой
в свой последний отъезд из Ламанчи
вместо хлеба и книги
лохматой лазури ломоть.
Гомер
Дело сводилось к осени.
Жар никого не радовал.
Пахло сырами козьими,
луком и виноградом.
Пахло горячей пазухой
ветреной молодайки.
Пахарю пахло засухой.
В море кричали чайки.
Рощи стояли выжжены.
Воздух был жгуч и душен.
Редкий дымок из хижины
напоминал про ужин.
В тонких колосьев лепете,
в шуме деревьев пряных
передвигался слепенький
в сером хитоне странник.
Старенький, еле дышучи,
хату свою покинув,
шел прародитель тысячи
уитменов и акынов.
Тут и случись неладное.
Вдруг запершило в горле,
скрючило – и сандалии
ноги ему растерли.
Сел, прислонившись к дереву,
губы тоской зашиты,
немощный, сирый, – где ему
в мире искать защиты?
Родина вся как нищая,
мучалась и говела,
только и было нынче ей
дела что до Гомера.
Он и на то не сердится,
зная свой меч и заступ,
может, всего лишь семьдесят,
может, уже и за сто.
Помнит ли кто, как с детства он
был в состязаниях первый,
как он дышал и действовал,
а не слагал напевы?
Лишь потерявши зрение,
взявшись больным за лиру,
смел он стихами зрелыми
век свой поведать миру.
Трогая лиру старую
пальцами рук усталых,
пели до сна уста его
для молодых и старых.
Рады или не рады,
гостя впустив под вечер,
спать его виноградари
клали в сарай овечий.
Там этот старый сказочник
тешился миской супа.
Свет его мыслей гаснущих
бился темно и скупо.
Рано вставал – и заново,
бос и от пота солон,
шел до конца до самого
к новым краям и селам.
Щеки, что были смуглыми,
стали от бурь рябыми.
Слушали слуги с мулами,
воины и рабыни.
Были слова не шелковы
для городского слуха,
не соловьями щелкали,
а рокотали глухо.
В них – не обиды личные,
не золотая шалость, –
целой земли величие
ширилось и вмещалось.
…Ну так обиды побоку!
Духом воспрял художник.
Враз набежало облако
и запузырил дождик.
Приготовление борща