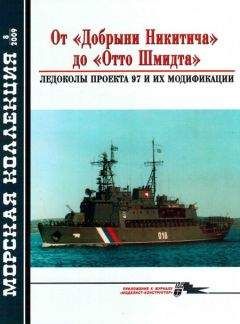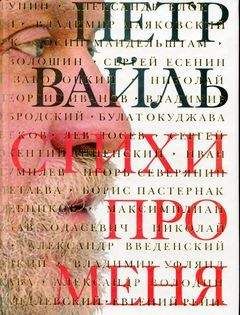Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
7. Старик-кладовщик
Старик-добряк работает в райскладе.
Он тих лицом, он горестей лишен.
Он с нашим злом в таинственном разладе
весь погружен в певучий полусон.
Должно быть, есть же старому резон,
забыв лета и не забавы ради,
расколыхав серебряные пряди,
брести в пыли с гремучим колесом.
Ему – в одышке, в оспе ли, в мещанстве –
кричат людишки: «Господи, вмешайся!
Да будет мир избавлен и прощен!»
А старичок в ответ на эту речь их
твердит в слезах: «Да разве я тюремщик?
Мне всех вас жаль. Да я-то тут при чем?»
8. Хорал
Дай заглянуть в глаза твои еще хоть.
Скажи хоть раз, что ты была не сном…
Под сапогами, черными, как деготь,
кричит заря в отчаянье смешном.
Святые спят. Их плачем не растрогать.
Перепились на пиршестве ночном.
Лишь чей-то возглас: «Господи, начнем!»
И детский крик. И паника. И похоть.
На небесах горит хорал кровавый.
Он сбрасывает любящих с кроватей.
Он рушит стены, грозен и коряв.
Кричит в ночи раздавленное детство,
и никуда от ужаса не деться,
пока гремит пылающий хорал.
9. Племя лишних
Мы – племя лишних в городе большом
с дворами злыми, с улицами старыми,
где люди глушат водку и боржом,
и врут в глаза, и трусят, как при Сталине.
Сто стукачей к нам сызмала приставлены,
казенный дом на тысячу персон.
А мы над всеми верами поржем.
А сами вовсе верить перестали мы.
Мы – племя лишних в этой жизни чертовой,
и мы со зла кричим: «А ну, еще давай!»
Нас давит век тяжелый, как булыжник.
В ракетных свистах да в разрывах атомных
мы – племя лишних, никому не надобных.
И мы плюем на все. Мы – племя лишних.
10. Не вижу, не слышу, знать не хочу
Не вижу неба в петлях реактивных,
не вижу дымом застланного дня,
не вижу смерти в падающих ливнях,
ни матерей, что плачут у плетня.
Не слышу, как топочет солдатня,
гремят гробы, шевелятся отцы в них,
не слышу, как в рыданьях безотзывных
трясется мир и гибнет от огня.
Знать не хочу ни жалости, ни злобы,
знать не хочу, что есть шуты и снобы,
что боги врут в руках у палача.
Дремлю в хмелю, историю листаю, –
не вижу я, не слышу я, не знаю,
что до конца осталось полчаса.
11. Женщина у моря
Над вечным морем свет сменила мгла.
Плывут валы, как птицы в белых перьях.
Всей красоты не разглядеть теперь их,
лишь пыль от них на камушки легла.
И женщина, пришедшая на берег,
в напевах волн стоит голым-гола,
как хрупкий храм. И соль на бедрах белых,
и славят ночь ее колокола.
Две наготы. Два неба. Два набата.
Грозна душа седого шалуна,
и, вся его дыханием объята,
как синева, хмельна и солона,
стоит у моря женщина ночная,
сама себя не видя и не зная.
12. Ветер
Дуй, ветер, так, чтоб нам дышать невмочь,
греми в ушах, перед глазами черкай,
прочней вяжи моих морозов мощь
с ее весной, мучительной и зоркой.
Не бойся ветра, нежная, как ночь,
ни буйства страсти, сумрачной и горькой.
Мы крещены бедой и черствой коркой.
И только ветер смеет нам помочь.
У жизни есть на всякого указки.
Но мы вступаем в заговор цыганский.
Возврата нет. Все брошено в былом.
Ладонь в ладонь! Черны или червонны –
любовь и ветер – больше ничего мы
в тревожный путь с собою не берем.
13. Весенний дом
Я помню дом один весною в городе.
Его за то я в памяти храню,
что по его карнизам ходят голуби
и снег лежит у крыши на краю.
Еще мокрынь, еще деревья голы те,
но, вся отдавшись нежному вранью,
горит девчонка в том весеннем холоде,
в мальчишеских ладонях, как в раю.
Взлетают неба синие качели.
А дом стоит, тяжелый от капели,
а льды звенят, а снег никак не стается.
Мне холода вовек не возомнятся.
Моим девчонкам всем по восемнадцать.
Я никогда не доживу до старости.
«Люди – радость моя…»
Люди – радость моя,
вы, как неуходящая юность, –
полюбите меня,
потому что и сам я люблю вас.
Смелым словом звеня
в стихотворном свободном полете,
это вы из меня
о своем наболевшем орете.
Век нас мучил и мял,
только я на него не в обиде.
Полюбите меня,
пока жив я еще, полюбите!
За характер за мой
и за то, что тружусь вместе с вами.
Больше жизни самой
я люблю роковое призванье.
Не дешевый пижон,
в драгоценные рифмы разоткан,
был всего я лишен,
припадая к тюремным решеткам.
Но и там, но и там,
где зима мои кости ломала,
ваших бед маета
мою душу над злом поднимала.
Вечно видится мне,
влазит в сердце занозою острой:
в каждом светлом окне
меня ждут мои братья и сестры.
Не предам, не солгу,
ваши боли мой мозг торопили.
Пусть пока что в долгу –
полюбите меня, дорогие!
Я верну вам потом,
я до гроба вам буду помощник.
Сорок тысяч потов,
сорок тысяч бессонниц полночных.
Ну зачем мне сто лет?
Больше жизни себя не раздашь ведь.
Стало сердце стареть,
стала грудь задыхаться и кашлять.
Не жалейте ж огня.
Протяните на дружбу ладоши.
Полюбите меня,
чтобы мне продержаться подольше.
«Во мне проснулось сердце эллина…»
Во мне проснулось сердце эллина.
Я вижу сосны, жаб, ежа
и радуюсь, что роща зелена
и что вода в пруду свежа.
Не называйте неудачником.
Я всем удачам предпочел
сбежать с дорожным чемоданчиком
в страну травы, в отчизну пчел.
Люблю мальчишек, закопавшихся
в песок на теплом берегу,
и – каюсь – каждую купальщицу
в нескромных взорах берегу.
Благословенны дни безделия
с подругой доброй средь дубрав,
когда мы оба, как бестелые,
лежим, весь бор в себя вобрав.
Мы ездили на хутор Коробов,
на кручи солнца, в край лесов.
Он весь звенел от шурких шорохов
и соловьиных голосов.
Мы ничего с тобой не нажили,
привыкли к всяческой беде.
Но эти чащи были нашими,
мы в них стояли, обалдев.
Уху варили, чушь пороли,
ловили с лодки щук-раззяв
и ночевали на пароме,
травы на бревна набросав.
О, если б кто в ладонях любящих
сумел до старости донесть
в кувшинках, в камышовых трубочках
до дна светящийся Донец!..
Плескалась рыба, бились хвостики.
Реки и леса красота,
казалось, вся в пахучем воздухе
с росой и светом разлита.
Скорей, любимая, приблизься.
Я этот мир тебе дарю.
Я в нем любил лесные листья
и славил зелень и зарю.
Счастливый, брошусь под деревья.
Да в их дыханье обрету
к земле высокое доверье,
гармонию и доброту.
«Солнце палит люто…»
Солнце палит люто.
Сердце просит лёта.
Сколько зноя лито!
Здравствуй, жизни лето!
Отшумели весны.
Отгорели годы.
Опустились весла
в голубые воды.
Стали ночи кратки,
стали дни пекучи.
На поля, на грядки
каплет пот текучий.
В поле пляшут мошки,
небосвод распахнут,
и цветы картошки
одуряя пахнут.
О девичьи щеки,
что румянец жжет их, –
золотые пчелки
на колосьях желтых!..
А в ночи ветвями
заколышет ветер,
и еще медвяней
от полей повеет.
Говоришь, озябла?
Ну так ляг же рядом.
А с дерев, а с яблонь
так и сыплет градом…
Мы недаром стали
и сильней, и зорче,
и уста с устами
говорят без желчи.
Солнце палит люто.
Сердце просит лёта.
Сколько зноя лито!
Здравствуй, жизни лето!
Белые кувшинки
Что за беда, что ты продрог и вымок?
Средь мошкары, лягушечьих ужимок
протри глаза и в прелести омой,
нет ничего прекраснее кувшинок,
плавучих, белых, блещущих кувшинок.
Они – как символ лирики самой.
Свежи, чисты, застенчиво-волшебны,
для всех, кто любит, чашами стоят.
А там, на дне, – не думали уже б мы, –
там смрадный мрак, пиявок черных яд.
На душном дне рождается краса их
для всех, а не для избранных натур.
Как ждет всю жизнь поэзию прозаик,
кувшинки ждут, вкушая темноту.
О, как горюют, царственные цацы,
как ужас им дыханье заволок,
в какой тоске сподыспода стучатся
стеблями рук в стеклянный потолок!
Из черноты, пузырчатой и вязкой,
из тьмы и тины, женственно-белы,
восходят ввысь над холодом и ряской.
И звезды пьют из белой пиалы.
«Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали…»