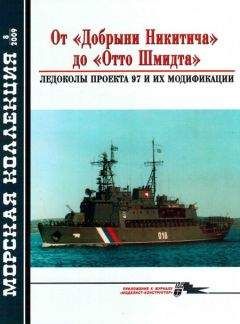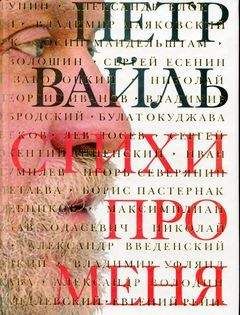Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
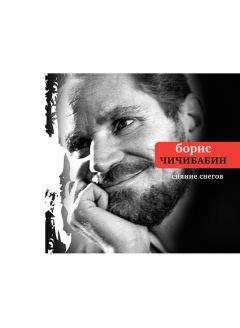
Обзор книги Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
Борис Чичибабин
Сияние снегов (сборник)
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 годы)
© Борис Чичибабин, наследники, 2015
© Лилия Чичибабина-Карась, составление, 2015
© «Время», 2015
* * *Евгений Евтушенко
Учивший кротостью и мощью
(Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»)
B 1959 году, когда я впервые собрался в Харьков, Борис Слуцкий, сам харьковчанин, сказал мне, что первый человек, с кем я должен там познакомиться, – это Чичибабин, и в подкрепление своих слов прочел его четыре строки:
Лестницы, коридоры,
хитрые письмена…
Красные помидоры
кушайте без меня.
В них была та необъяснимость, которая и есть поэзия.
Тогдашний студент театрального училища Сережа Новожилов, ныне петербуржец, народный артист России, помог мне в первый же день разыскать дышавший на ладан домишко на Рымарской с водопроводной колонкой во дворе. Мы поднимались по деревянной лестнице, ведущей, похоже, на чердак. Шли на песню, раздававшуюся сверху под гитарные струны. Дверь не была заперта. За столом, на котором стояли полупустая бутылка водки, банка килек и пара граненых стаканов, сидели двое: тот, что с гитарой, – помоложе, другой – постарше, худущий, изможденный, из чьих глаз на меня полыхнула жгучая синева. В нем я сразу признал Чичибабина. Мы раньше не встречались, но и он догадался, кто я, приложил палец к губам, чтобы не прерывать песню, подвинул нам с Сережей по табурету и тихонечко плеснул остатки водки в чайные чашки. Когда песня кончилась, крепко пожал мне руку своей костистой сильной рукой лагерного землекопа.
– Ну, здравствуй, Евтушенко.
Парень с гитарой, угольно косматый, с такими же угольными глазами, представился кратко: «Пугачев», словно вынырнул из метельного месива «Капитанской дочки», затем добавил: «Леша», – и продолжил пение собственных, надо сказать, отчаянно удалых песен. А потом Чичибабин скомандовал:
– Ну, теперь читай, Евтушенко.
И впился в меня недоверчивым пронзительным взглядом, словно выпытывал: что ты за человек и способен ли ты выдержать славу, которая на тебя свалилась?
Одно никак не сопрягалось с его могучими глазами, с его буйной не по возрасту копной волос: он был одет во все советско-усредненное, учрежденческое, нечто заготзерновское, жэковское, счетоводческое, как будто его насильно запихнули в эту смирительную одежонку. Потом я узнал, что он на самом деле работает в конторе грузового автопарка.
А когда он начал читать стихи, расправив плечи и наполнившись неизвестно откуда взявшейся мощью, в нем проглянуло что-то древнерусское, что-то от вольных новгородцев, собиравшихся на вече. Он читал, рубя голосом ритм, а ладонью воздух:
Как будто дело всё в убитых,
в безвестно канувших на Север –
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, –
не умер Сталин.
Стихи звучали как анафема, заклинание, клятва. Я не мог оторвать глаз от него, совершенно завороженный, а когда пришел в себя, то увидел, что комнатенка наполнилась людьми, явившимися на его голос, как на звук набатного колокола. Помню прекрасную исполнительницу стихов преподавательницу Сашу Лесникову, будущего режиссера Валю Ивченко, который подарил мне из своего рассказа изумительную строчку «Крокодил, потрескавшийся от обид», поэта Марка Богославского, художников, студентов, ученых, инженеров. В Харькове голос Чичибабина будил совесть. Ранним утром меня провожала в гостиницу целая толпа «чичибабинцев». Они и спасали его своей любовью, когда ему приходилось худо.
Отслужив во время войны три года в авиачастях Закавказского военного округа, в 1946 году студент-филолог Борис Чичибабин сел на пять лет за «антисоветскую агитацию». По тем временам, как он сам выразился, срок был смехотворным, хотя отбывал его Борис не где-нибудь, а в Вятлаге. После отсидки о филологии нечего было думать. Пришлось заканчивать курсы бухгалтеров, тогда эта профессия не была такой заманчивой, как сейчас.
В 1963 году все-таки вышла его первая, сильно общипанная цензурой книжка в Москве, а потом три таких же в Харькове. В 1966‑м его приняли в Союз писателей. Но цензурованная жизнь была не по нему. В Чичибабине все круче замешивался, по его слову, «притворившийся смирением мятеж». Его стихи о Достоевском читаются как собственный дневник поэта:
Все осталось. Ничего не зажило́.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо… Тяжело
достается Достоевскому Россия.
Когда пошли чередой диссидентские процессы, он места себе не находил, чувствуя и себя виноватым во всех жестокостях, происходящих при нем.
Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло…
А между тем еще одна
душа погибла.
У мира прорва бедолаг, –
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.
Чичибабин выбрал не самооправдание, а покаяние:
И вижу зло, и слышу плач,
и убегаю, жалкий, прочь,
раз каждый каждому палач
и никому нельзя помочь.
‹…›
Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог и
раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.
Так осудить самого себя куда труднее, чем обвинять власть, да еще на уютной кухне, как в нашем традиционном домашнем гайд-парке. Мало кто набрался мужества высказаться о себе с такой беспощадностью, как Чичибабин:
Не мне, о, не мне говорить вам про честь:
в родимых ламанчах
я самый бессовестный что ни на есть
трепач и обманщик.
Пока я вслепую болтаю и пью,
игруч и отыгрист,
в душе моей спорят за душу мою
Христос и Антихрист.
И в то время как он неувиливающе каялся перед самой высокой инстанцией на свете, какие-то жалкие партийные инстанции требовали, чтобы он покаялся за ощущение безысходности, за сочувствие тем, кто был вынужден уезжать с Родины без обратного билета, за стихи о «воровских» похоронах Твардовского, на которые пускали «по талонам». Не дождавшись, Чичибабина исключили из Союза писателей. Но с ним уже была Лиля Карась, писавшая такие стихи: «Как немые, мычали мы в рамы двойные». Именно она стала для Бориса и любовью на всю жизнь, и вернейшим другом. Нашелся прекрасный человек, начальник отдела в трамвайно-троллейбусном управлении Иван Федорович Светлов, взявший опального поэта на работу, а ведь милосердие к неблагонадежным было наказуемо.
Кто-то очень точно сказал: «Советская власть лицемерно преследовала Чичибабина за все те принципы, которые сама же провозглашала». Добавлю: поэтому она и развалилась вместе с Советским Союзом. А «антисоветский» Чичибабин переживал это как трагедию народов и свою личную.
Он написал о колоколе: «В нем кротость и мощь». Именно эти два колокольные качества, слитые в одно, и есть его нечаянное самоопределение. Кротость – в перенесении страданий, мощь – в их преодолении.
Чичибабин был праведник, но неистовый праведник-воин, прячущий под кажущимся многотерпением нечто аввакумовское. Он был враг любых сговоров, в том числе и со своей совестью. Если жить по стихам Чичибабина, то подавление свободы, глумление над людьми станет невозможным. Чисто по-человечески он был лучшим из всех поэтов, из всех, кого я встречал, а может быть, даже лучшим человеком изо всех людей.
В 1989 году харьковчане выдвинули меня в народные депутаты СССР, и я выступал в этом давно полюбившемся мне городе у памятника Пушкину, рядом с книжным магазином «Поэзия». Люди затопили площадь, в их глазах было ожидание чего-то важного, что должно произойти в стране и со всеми нами. Мне передали, что Борис обещал прийти и поддержать меня, но в это было трудно поверить, потому что он вообще сторонился политической публичности. И вдруг кто-то шепнул: «Чичибабин здесь». Я оглянулся и снова увидел этого человека, перед которым толпа уважительно старалась расступиться, что было не так-то просто. Из-под густых, теперь уже седых бровей так же, как тридцать лет назад, когда мы познакомились, глаза полыхали той же жгучей невыцветшей синевой – глаза гусляра и монаха, подпоясанного, однако, невидимым мечом. Я попросил Чичибабина прочесть стихи, и, пока харьковчане аплодировали, радуясь его появлению, он неловко вытискивался из толчеи и шел по единственно свободному месту – по краю клумбы, стараясь не повредить цветов, оступаясь в жирном черноземе и держа в руках захваченную из дому кошелку. Но и с этой кошелкой, и с этой неуклюжей застенчивой походкой он был совершенно естествен возле Пушкина.