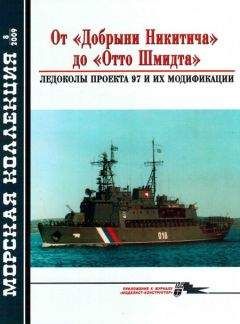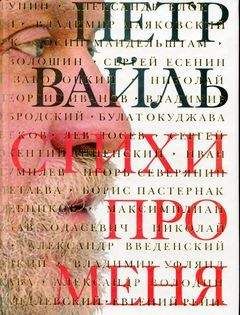Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
«Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели…»
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Среди сосен и скал там нам было на все начихать.
Там у синего моря цветы на камнях розовели
и дремалось цветам под языческий цокот цикад.
Мы забыли беду, мы махнули рукой на заботы,
мы сказали нужде: «Подожди-ка нас дома, нужда!».
Дома ссорились мы. Я тебе говорил: «Ну чего ты?» –
И в глаза целовал, и добра ниоткуда не ждал.
Так уж вышло у нас. Ничего мы с тобой не сумели.
Я дымлю табаком, надо мной воздушок сине-сиз.
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там мы рвали кизил и ходили пешком в Симеиз.
Бесшабашное солнце плыло в галактических высях
над просоленной галькой – обломышем древних пород…
Я от кривды устал, я от горнего голода высох,
не смеются глаза, и улыбкой не красится рот.
Убежим от себя – хоть на край, хоть на день, хоть на час мы.
Ну-ка платье надень, ну-ка ношу на камни свали –
и забудем о том, что запутаны мы и несчастны,
и в смеющейся влаге утопим тревоги свои…
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Он висел между скал и глаза нам лазурью колол.
Жарко-ржавые пчелы от сока живьем осовели,
черкал ящерок яркий. Скакал по камням богомол.
Там нам было тепло. А бывало, от стуж коченели.
Государственный холод глаза голубые гасил…
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там шершава трава и неслыханно кисел кизил.
«Как стали дни мои тихи…»
Как стали дни мои тихи…
Какая жалость!
Не в масть поре мои стихи,
как оказалось.
Для жизни надобно служить
и петь «тарам-там», –
а как хотелось бы прожить
одним талантом.
Махну, подумавши, рукой:
довольно бредней, –
не я единственный такой,
не я последний.
Добро ль, чтоб голос мой гремел,
была б охота,
а вкалывал бы, например,
безмолвный кто-то?
Всему живому друг и брат
под русским небом,
я лучше у церковных врат –
за нищим хлебом.
Пускай стихам моим пропасть,
без славы ляснув, –
зато, веселым, что им власть
мирских соблазнов?
О, что им, вольным, взор тупой,
корысть и похоть,
тщеславье тех, кто нас с тобой
берет под ноготь?
Моя безвестная родня,
простые души,
не отнимайте у меня
нужды и стужи.
В полдневный жар, в полночный мрак,
строкой звуча в них,
я никому из вас не враг
и не начальник.
Чердак поэта – чем не рай?
Монтень да тюлька.
Еще, пожалуйста, сыграй,
моя свистулька.
Россия – это не моря,
леса, долины.
С ее душой душа моя
неразделимы.
«Меня одолевает острое…»
Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,
и все друзья меня забросили.
Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.
В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.
В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей…
Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя – как на чужого.
С меня, как с гаврика на следствии,
слетает позы позолота.
Никто – ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.
Я – просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.
«Когда с тобою пьют…»
Когда с тобою пьют,
не разберешь по роже,
кто – прихвостень и плут,
кто – попросту хороший.
Мне все друзья святы́.
Я радуюсь, однако,
учуяв, что и ты
из паствы Пастернака.
Но мне важней втройне
в разгаре битв заветных,
на чьей ты стороне –
богатых или бедных.
Пусть муза и умрет,
блаженствуя и мучась,
но только б за народ,
а не за власть имущих.
Увы, мой стяг – мой стих,
нам абсолютно плохо:
не узнаёт своих
безумная эпоха.
«Вся соль из глаз повытекала…»
Вся соль из глаз повытекала,
безумьем волос шевеля,
во славу вам, политиканы,
вам, физики, вам, шулера.
Спасая мир от милой дури,
круты вы были и мудры.
Не то что мы – спиртягу дули
да умирали от муры.
Выходят боком эти граммы.
Пока мы их хлестали всласть,
вы исчисляли интегралы
и завоевывали власть.
Владыками, а не гостями
хватали время под уздцы, –
подготовители восстаний
и открыватели вакцин.
Вы сделали достойный вывод,
что эти славные дела
людское племя осчастливят,
на ложь накинут удила.
По белу свету телепаясь,
бренча, как битая бутыль,
сомненья списаны в утиль,
да здравствует утилитарность!
А я, дивясь на эту жуть,
тянусь поджечь ее цигаркой,
вступаю в заговор цыганский,
зову пророков к мятежу.
О чары чертовых чернильниц
с полуночи и до шести!..
А вы тем временем женились
на тех, кто мог бы мир спасти.
Не доверяйте нашим лирам:
отпетым нечего терять.
Простите, что с суконным рылом
втемяшился в калашный ряд.
Но я не в школах образован,
а больше в спорах да в гульбе.
Вы – доктора, а я – плебей,
и мне плевать на все резоны.
Пойду мальчишкой через век
сухой и жаркою стернею.
Мне нужен Бог и Человек.
Себе оставьте остальное.
«Колокола голубизне…»
Колокола голубизне
рокочут медленную кару,
пойду по желтому пожару,
на жизнь пожалуюсь весне.
Тебя поносят фарисеи,
а ты и пикнуть не посмей.
Пойду пожалуюсь весне,
озябну зябликом в росе я.
Часы веселья так скупы,
так вечно косное и злое,
как будто все в меня весною
вонзает пышные шипы.
Я, как бессонница, духовен
и беззащитен, как во сне.
Пойду пожалуюсь весне
на то, что холод не уходит.
«Весна – одно, а оттепель – иное…»
Весна – одно, а оттепель – иное:
сырая грязь, туманов серый дым,
слабеет лед, как зуб, крошась и ноя,
да жалкий дождь трещит на все лады.
Ее приметы сумрачны и зыбки,
в ее теплыни холод затаен,
и снег – не снег, и тает по ошибке,
да жалкий дождь клубится сатаной.
Все планы – в прах, все вымыслы повыбрось,
не доверяй минутному теплу.
Куда ни глянь – всё мокрота да рыхлость,
да жалкий дождь стекает по стеклу.
И мы хмелеем, даром что тверёзы,
разинув рты на слякотную хмарь,
но молча ждут мордастые морозы
да жалкий дождь бубнит, как пономарь.
«Нам стали говорить друзья…»
Нам стали говорить друзья,
что им бывать у нас нельзя.
Что ж, не тошней, чем пить сивуху,
прощаться с братьями по духу,
что валят прямо и тайком
на времена и на райком,
окончат шуткой неудачной –
и вниз по лестнице чердачной.
А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет.
«Живу на даче. Жизнь чудна…»
Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло…
А между тем еще одна
душа погибла.
У мира прорва бедолаг, –
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.
Я только-только дотяну
вот эту строчку,
а кровь людская не одну
зальет сорочку.
Уже за мной стучатся в дверь,
уже торопят,
и что ни враг – то лютый зверь,
что друг – то робот.
Покойся в сердце, мой Толстой,
не рвись, не буйствуй, –
мы все привычною стезей
проходим путь свой.
Глядим с тоскою, заперты,
вослед ушедшим.
Что льда у лета, доброты
просить у женщин.
Какое пламя на плечах,
с ним нету сладу, –
принять бы яду натощак,
принять бы яду.
И ты, любовь моя, и ты –
ладони, губы ль –
от повседневной маеты
идешь на убыль.
Как смертью веки сведены,
как смертью – веки,
так все живем на свете мы
в двадцатом веке.
Не зря грозой ревет Господь
в глухие уши:
– Бросайте всё! Пусть гибнет плоть.
Спасайте души!
«Когда трава дождем сечется…»