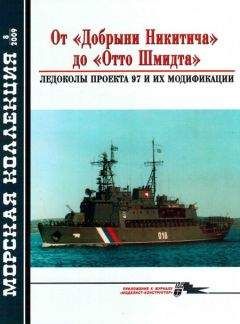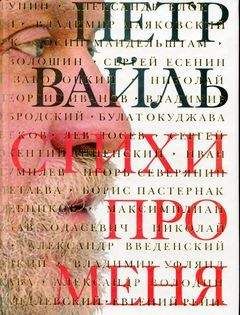Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
«Услышь мое заветное условье…»
Услышь мое заветное условье.
Когда умру, зарой мой прах в глуби
моей Руси, где гульбища коровьи,
где небо землю молит «Не убий».
Поэтов русских помни и люби,
клади их сны в ночное изголовье, –
они полны духовного здоровья,
как русский лес и лето на Оби.
Храни наш рай во свете и в тиши,
но то, что есть, былым не заглуши
и новых дружб тоской не охлади ты.
Люби живых, с кем жизнь тебя свела,
и будь сама любима и светла,
с душой Христа и телом Афродиты.
«Издавнилось понятье „патриот“…»
Издавнилось понятье «патриот».
Кто б не служил России, как богине,
и кто б души не отдал за народ?
Да нет ни той, ни этого в помине.
Прошли как жизнь. Дурак о них не врет.
Колокола кладбищенской полыни
поют им вслед, печалясь, как о Риме,
грустит турист у вырытых ворот.
Народ – отец нам и Россия – мать,
но их в толпе безликой не узнать,
черты их стерлись у безродной черни.
Вот что болит, вот наша боль о чем, –
к моей груди прильнувшая плечом, –
а время все погромней, все пещерней.
«Когда уйдешь, – а рано или поздно…»
Когда уйдешь, – а рано или поздно
ведь ты уйдешь, затем что молода,
затем что рощи никнут в холода
и сухомять расшатывает десна, –
душа пребудет памятью горда,
и пусть проходит чисто и бесслезно
тех лет осиротелых череда,
что нам дано прожить с тобою розно.
О, будь счастливой в жизни без меня!
Возьми на память эти письмена,
что в дни любви душа моя кропала.
Как все живое – воду и зарю,
за все, за все тебя благодарю,
целую землю – там, где ты ступала.
«Месяц прошел и год, десять пройдет и сто…»
Месяц прошел и год, десять пройдет и сто, –
дышит – поет внизу море в барашках белых.
Ласточкино гнездо, Ласточкино гнездо –
нежного неба зов, южного моря берег.
Прожитых дней печаль стихла и улеглась.
Чайки сулят покой. Звездно звенят цикады.
Близким теплом души, блеском любимых глаз
в Ласточкином гнезде так неземно тиха ты.
Наши сердца кружит солнца и моря хмель,
память забыла все горести и ненастья.
Почка лозы святой – пушкинская свирель –
путников вновь свела в замке добра и счастья.
Сладостно-солона вечная синева,
юность ушла в туман на корабле прошедшем.
«Ласточкино гнездо» – ласковые слова,
те, что не раз, не два мы в тишине прошепчем.
Как за волной волна, тайне душа верна.
Спят за горой гора в свете от кипарисов.
Давние времена, славные имена
как ветровой привет и как заветный вызов.
Стань для меня с тобой памятью и звездой,
где, как веков настой, море шумит в пещерах,
Ласточкино гнездо, Ласточкино гнездо –
нежного неба зов, южного моря берег.
«Поэты пушкинской поры…»
Поэты пушкинской поры
в своих сердцах несли сквозь годы
Ответственности и Свободы
неразделенные миры.
О тайной вольности восходы!
О веры вешние пиры!
В них страсть и вера, ум и совесть,
обнявшись, шли одним путем –
да разошлись они потом,
как Фет с Некрасовым, поссорясь.
Поэты пушкинской поры,
чья в царстве льдов завидна доля,
беспечны были и добры,
сады святынь растя и холя.
И нам бесценны их дары.
Как высота святой горы,
где свет, и высь, и даль, и воля,
пред низиной мирского поля, –
поэты пушкинской поры.
Феликсу Кривину
Я не пойму, где свет, где тьма,
не разберу, где мак, где вереск,
уж если Вы, тишайший Феликс,
хлебнули горя от ума.
Дойдет ли до Карпат ущельных
дрожанье дружеских сердец
за Вас, застенчивый мудрец,
людей жалеющий волшебник,
циклоп и цы́ган злой поры,
чьи россказни на черном рынке,
как Солженицына и Рильке,
рвут у барыг из-под полы?
Немалый срок с тех пор протек,
как мы нагрянули в Мукачев,
своим визитом озадачив
гостеприимный городок.
Дойдет ли до Карпат ущельных
биенье любящих сердец
за Вас, застенчивый мудрец
и непоседливый отшельник,
кто, в человечности упрям,
там столько лет живет, как Пимен,
где от костров пахучих дымен
древесный воздух по утрам?
Нас тучи холодом кропят.
Так не пора ли нам обняться,
чтобы обнявшимся остаться
на светлом донышке Карпат?
На смерть знакомой собачки Пифы
Принесли в конверте
мизерную весть,
и о малой смерти
мне пришлось прочесть.
Умерла собачка –
не велик урон:
без печали спячка,
пища для ворон…
От какого тифа,
от какой беды
забежала Пифа
в горние сады?
Шерстяная, шустрая…
Горя не смирю,
и, как равный чувствуя,
с равной говорю.
И в любви, и в робости
я тебе под стать
и хочу подробности
про беду узнать.
Ты была хорошею,
как свеча во мгле,
озорной порошею
стлалась по земле.
В человечьей гадости
лап не замарав,
от собачьей радости
проявляла нрав.
Дай мне лапы добрые
и не будь робка,
вся ты наподобие
светлого клубка…
Если встать на корточки,
разлохматить прядь,
все равно на мордочке
дум не разобрать.
На кого надеяться?
Разлеглась, как пласт,
не облает деревца,
лапки не подаст.
Бедный носик замшевый,
глазоньки в шерсти, –
ах вы, люди, как же вы
не могли спасти?
Злые волки живы,
нет беды на злых,
а веселой Пифы
больше нет в живых…
Умерла собачка, –
не велик урон, –
так возьми заплачь-ка,
что и мы умрем.
Только я, счастливый,
мысль одну храню:
повстречаться с Пифой
в неземном краю.
Я присел на корточки,
чтобы в мире том
до лохматой мордочки
дотянуться лбом.
Киев
Ю. Шанину
Без киевского братства
деревьев и церквей
вся жизнь была б гораздо
безродней и мертвей.
В лицо моей царевне,
когда настал черед,
подуло Русью древней
от Золотых ворот.
Здесь дух высок и весок,
и пусть молчат слова:
от врубелевских фресок
светлеет голова.
Идем на зелен берег
над бездной ветряной
дышать в его пещерах
святою стариной.
И юн, и древен Киев –
воитель и монах,
смоловший всех батыев
на звонких жерновах.
Таится его норов
в беспамятстве годов,
он светел от соборов
и темен от садов.
Еще он ал от маков,
тюльпанов и гвоздик, –
и Михаил Булгаков
в нем запросто возник.
И, радуясь по-детски,
что домик удался,
строитель Городецкий
в нем делал чудеса…
Весь этот дивный ворох,
стоцветен и стокрыл,
веселый друг филолог
нам яростно дарил.
Брат эллинов и римлян,
античности знаток,
а Киев был им привран,
как водится, чуток.
Я в том не вижу худа,
не мыслю в том вины,
раз в киевское чудо
все души влюблены.
Ведь, если разобраться,
все было бы не так
без киевского братства
ученых и бродяг.
Нас всех не станет вскоре,
как не было вчера,
но вечно будут зори
над кручами Днепра.
И даль бела, как лебедь,
и, далью той дыша,
не может светлой не́ быть
славянская душа.
«Редко видимся мы, Ладензоны…»
Б. Я. Ладензону
Редко видимся мы, Ладензоны, –
да простит нас за это Аллах, –
отрешенные, как робинзоны,
на тверезых своих островах.
Или дух наш не юн и не вечен,
или в мыслях не стало добра,
что сегодня делиться нам нечем,
как, бывало, делились вчера?
Я не верю в худые заклятья,
не хочу ни затворов, ни стен,
только не размыкайтесь, объятья,
только б не расставаться ни с кем.
И приду еще я, и разуюсь,
и, из дружеской чаши поим,
вновь покоем твоим залюбуюсь
и порадуюсь шуткам твоим.
Наши дни холодны и туманны,
наша кривда нависла тузом.
Не хватило мне брата у мамы.
Будь мне братом, Борис Ладензон.
Назови это вздором и чушью,
только я никогда не пойму,
где предел твоему добродушью,
где он юмору, где он уму,
где он той доброте некрикливой,
что от роду тиха и проста
и венчается русской крапивой
вместо терний Исуса Христа.
И хоть стали нечастыми встречи,
и хоть мы ни на вы, ни на ты,
эти встречи – как Божии свечи
в черноте мировой темноты.
Трижды слава таинственной воле,
что добра она к русской земле,
что не в сытости мы и не в холе,
а всего лишь во лжи да во зле.
Век наш короток, мир наш похабен,
с ними рядом брести не резон.
Я один на земле Чичибабин.
Будь мне братом, Борис Ладензон.
Слово о Булате