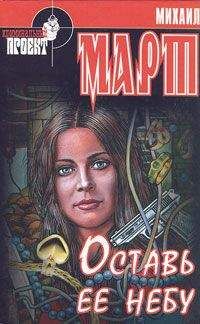Михаил Цетлин (Амари) - Цельное чувство
Семисвечник
I. «Семисвечник святой мечты…»
Семисвечник святой мечты
С просветленной, чистой душою
Зажигаешь под праздник ты.
О, наверно, светлы такою
Неземной, иной белизною
В книге мира под божьей рукою
Неисписанные листы!
II. «Ты всегда говоришь: “борух”…»
Ты всегда говоришь: «борух».
Это значит: «благословенно».
Всюду божий, праведный дух.
В мире все нетленно, священно.
Я ж забыл про слово «борух»,
И мой дух стал скуден и сух
В обезбоженной, скудной вселенной.
III. «И плоды, и хлеб, и вино…»
И плоды, и хлеб, и вино —
Все до маковой, малой росинки,
Все молитвою освящено.
Шепчешь, шепчешь слова без запинки,
Воду пьешь иль вино — все равно!
Если только опустишь на дно
Нард душистый — молитвы крупинки.
IV. «Десять заповедей мезузы…»
Десять заповедей мезузы
Освящают в жилище вход.
Запрещенья, путы и узы,
Сколько мелочных вечных забот!
Но средь бурных, великих вод
Не от этого ль тяжкого груза
Твой корабль не тонет — плывет?
V. «Не задул, не задул твоих свеч…»
Не задул, не задул твоих свеч
Бурный ветер, ветер гонений.
Мог он только их ярче разжечь:
Все звучит, звучит твоя речь,
Все горит и горит твой гений.
Не пришло еще время лечь
Для глубоких отдохновений.
VI. «Пасха, Пасха, накрытый стол…»
Пасха, Пасха, накрытый стол,
Скатерть чистая, светлые лица
И для деда кресло-престол,
Чтоб за трапезой петь и молиться…
Я забыл, отвернулся, ушел.
Горький «морейр» и острый рассол —
Детских образов мне вереница.
VII. «Семисвечник, гори, светись…»
Семисвечник, гори, светись.
Наклонись над книгою вечной,
Там вначале гремит «брейшись»
Громовой красотой бесконечной.
Каждый день недели молись.
Жизнь, гори, прояснись, просветись,
Как светильник святой семисвечный.
Памяти Мицкевича
Ты родина ль великого Адама,
Не прежняя, другая, злая Польша?
Он не поверил бы. «Нет, бред Бэдлама, —
Сказал бы он, — лжи не придумать больше!»
Он был певцом, пророком, пилигримом.
В его мечтах Польша была Мессией…
И вот она, гонимая, к гонимым
Безжалостна! И делит стыд с Россией.
Адам, Адам! Ты, спящий там в Вавеле,
Венчающем прекрасный древний Краков,
Когда б проснулся ты, о, неужели
Спокойно б ты смотрел на грех поляков?
Нет, бросился бы ты под колесницу,
Которая чужих, но слабых давит.
Или простер, как властелин, десницу,
Чтоб удержать коней и тех, кто правит!
О, мой народ! Опять година скорби.
Прибавишь к старым ранам снова раны.
Но не погибнешь ты: ведь в бедной торбе
Странника-торгаша есть талисманы.
Те талисманы — вера, сила духа.
Они — ковчег твой среди злой стихии.
И явственен для внутреннего слуха
Призывный рог незримого Мессии.
Летом
Хорошо нам летом жить,
Утром слышать птичьи свисты,
Жить да жить и не тужить,
В лес тенистый уходить,
Спать под шелест многолистый.
Травы мягкие растут,
Посмотри, как гусеницы
Целым тельцем вверх ползут,
Терпеливо ждут и ждут,
Чтобы бабочками взвиться.
Ткут воздушно паучки
Паутинки тонкой нити.
Тише, тише, башмачки!
Осторожней, каблучки, —
Муравья не раздавите.
Муравьев не легок труд:
Целый день, не отдыхая,
Там и тут, и там и тут,
Все ползут, ползут, ползут,
А куда ползут, не знаю.
Тост (За артистов Художественного театра)
Никогда я в жизни не забуду,
Сколько я еще ни проживу,
Это упоительное чудо,
Этот сон прекрасный наяву!
Буду помнить Книппер темный голос;
Южная в нем ночь и всплески волн.
Страстью, что страдала и боролась,
Умною он ласковостью полн.
Буду помнить Лилину я в Ане
(Диких роз колючий, нежный куст)
И слова великих упований
К Дяде Ване с девических уст.
Машу, нюхающую по-мужски,
Милых, грустных, бедных трех сестер,
Шуйского и Фокерата, Лужский,
Лет ушедших ряд в душе не стер.
И со мной. Вишневский, Ваш Антоний,
И с собой как малый груз влеку
Москвина — блаженного на троне
И его лукавого Луку!
Леонидов, пламенный Бурджалов,
Чувством меры полнящий гротеск.
Несравненный чародей — Качалов,
Коренева — глаз лазурный блеск!
Образов я всех не перечислю —
Что скажу, «волнуясь и спеша»?
Но о Вас, о Вас еще помыслю,
Станиславский, — общая душа!
Саше
О, первая нить молодой любви
От сердца к сердцу слегка…
Паутинку эту не тронь, не рви:
Она так тонка и легка.
Вот губы скривились в улыбку, чуть-чуть,
От смущенья в тот милый миг,
Когда возник, как сквозь легкую муть,
Просветленным — знакомый лик.
Она стала другая, совсем не та,
Что была так недавно, вчера.
О, как теплым дыханьем мягчит красота
Для счастливых слез, для добра,
Для всего, что бывает в жизни хоть раз!
Но навек остается в душе
Блеск дрожавших слез, свет сиявших глаз,
Напоенное счастьем саше.
То, что после глубоко, на самом дне
Запыленной и тусклой души,
Не выветривается все же вполне,
Благоухает в тиши.
И не знаешь, как быть средь забот и дней
С даром слез, обретенным вновь.
«О, Боже, что сделал я с жизнью моей?
Зачем не хранил любовь!»
Снег
Снег падал на руки и лица,
Мягко слепил глаза,
Сверкал, ложась на ресницы,
Как алмазная слеза.
И казался взор осветленным
От напудренных снегом волос
И теплым и благовонным,
Как от белых душистых роз.
Становился воздух морозный, —
И земной красотой дыша,
Трепетала в дрожи предслезной
Умягченная счастьем душа.
И губы коснулись нежно
(Поцелуй был сдержано-скуп)
Холодка и влажности снежной
Дрожащих от счастья губ.
И выпили, как росинки
На утренних чистых цветах,
Растаявшие снежинки
На этих холодных устах.
Гусеница
Гусеница, будущая бабочка,
Что ты знаешь о своей судьбе?
Ты уснешь, запеленавшись коконом,
Но проснуться легкою, сияющей
Бабочкою суждено тебе.
И душа моя освобожденная,
Средь эфирных, голубых полей,
Вспомнит ли, как бабочка о гусенице,
О другой, о вялой, спавшей коконом,
О слепой, земной душе моей?
«Что я унесу в своем сердце и с чем я уйду?..»
Что я унесу в своем сердце и с чем я уйду?
На что оглянусь на мгновенье в последнем бреду?
Насытившись всей красотою земною уйду,
Нетленной, священной ее красотою — уйду.
Со всем, что приснилося людям в блаженном чаду
Мечтавшим о чуде, о вечности в райском саду.
И с тем, что открылось нам, — знак побывавших в аду,
Ожог его пламени! — если теперь я уйду.
ПОРТУГАЛЬСКИЕ СОНЕТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ БАРРЕТ БРАУНИНГ (1956)