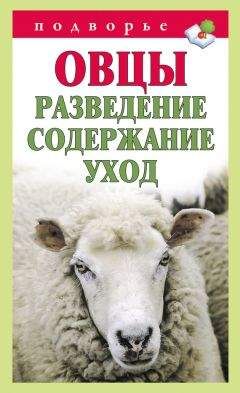Дмитрий Воденников - Обещание
Без названия
Любовь –
то с нежностью,
то с грустью:
то поскребет, то ковырнет, –
но – не надейся – не отпустит,
пока всю шкурку не сотрет.
Так безымянно погибает —
но – как достойно – гибнет сад —
ему плевать: он облетает,
он – падает – спиной назад.
Вот так и мне – в моем блаженстве
(когда – живот и жизнь поют!) —
какая разница —
как в детстве —
тебя назвали – и зовут.
Но эта гибель – без названья —
имеет множество причин,
чтоб мы – в конце концов – назвали
всех наших женщин и мужчин.
А то и нас —
потом —
попросят
(когда отшкурят и съедят),
а как фамилия – не спросят. —
Не захотят.
ИЗ – ПОСЛЕДНИХ МОИХ – РАЗГОВОРОВ
...Ну, да, говорю, – надорвался
Ну, да, говорю, – совсем обалдел
Но ТЫ-ТО – чему радуешься?
ТЕБЕ-ТО – какая корысть?
а, говоришь,
радуешься бескорыстно...
ну-ну
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК! –
(тот, – который обдумывает – письмо)
я сейчас покажу вам несколько мест,
которые – можно занять,
и которые – можно – присвоить:
первое место – ПИСАТЬ О СЕБЕ,
второе место – ПИСАТЬ ДЛЯ СВОИХ,
третье – ПИСАТЬ ДЛЯ ДРУГИХ И ДЛЯ ВСЕХ.
...правда, есть еще один вариант:
ЕДИНСТВЕННЫЙ,
БЛАГОУХАННЫЙ,
НЕСРАВНЕННЫЙ, –
но ЭТО место,
mal’tchik,
пока что – ЗАНЯТО.
Так неудобно жизнь – во мне лежала,
что до сих пор —
все невпопад лежит:
все трогали меня – она дрожала,
уже не трогают – она еще дрожит.
И, тем не менее – пытаясь петь и жалить,
срывая голос,
выступленье, медь, –
вообще-то мы тебе не разрешали
на нашу смерть – так пристально – глядеть.
Что было медом – обернулось жалом,
что было жалом – сжалилось в груди:
вообще-то мы тебя
предупреждали,
но если очень надо, – на! гляди...
...О, я отлично помню – как с экрана
живых людей, не знаю почему —
поодиночке,
пачками,
попарно
(под фотовспышку Баха Иоганна)
поочередно – сбрасывали – в тьму.
Но также помню я – как шла себе старуха,
вот именно – не падала, а шла,
и было ей начхать
на ваших внуков.
Но даже – в этом – логика была...
А в этой дрожи, в этом исступленье
(всех наших жил —
вдруг захотевших здесь
еще продлить дрожанье и паденье!)
нет – логики,
нет – пользы,
нет – спасенья.
А счастье – есть.
Так – постепенно —
выкарабкиваясь – из-под завалов —
упорно, угрюмо – я повторяю:
Искусство принадлежит народу.
Жизнь священна.
Стихи должны помогать людям жить.
Катарсис – неизбежен.
Нас так учили.
А я всегда был – первым учеником.
Вся моя пресловутая искренность –
от нежелания подыскивать
тему для разговора.
Раньше – в подобных случаях –
я сразу ложился в постель.
Теперь – говорю правду.
Хорошо это, плохо, –
не мне судить.
Но людям – НРАВИТСЯ.
Я не кормил – с руки – литературу,
ее бесстыжих и стыдливых птиц.
Я расписал себя – как партитуру
желез, ушибов, запахов, ресниц.
Как куст – в луче прожектора кромешном —
осенний, – я изрядно видел тут,
откуда – шапками – растут стихотворенья,
(а многие – вглубь шапками растут).
Я разыграл себя – как карту, как спектакль
зерна в кармане, – и – что выше сил!
(нет, не моих! – моих на много хватит) —
я раскроил себя – как ткань, как шелк, как штапель
(однажды даже череп раскроил).
Я раскроил, а ты меня заштопал,
так просто – наизнанку, напоказ, —
чтоб легче – было – жить,
чтоб жизнь была – по росту,
на вырост – значит, вровень, в самый раз!
Я превратил себя —
в паршивую канистру,
в бикфордов шнур, в бандитский Петербург.
Я заказал себя – как столик, как убийство, —
но как-то – слишком громко, чересчур.
Я – чересчур, а ты меня – поправишь:
как позвонок жемчужный – обновишь,
где было слишком много – там убавишь,
где было слишком мало – там прибавишь.
Но главное – отпустишь и оставишь
(меня, меня! – отпустишь и оставишь),
не выхватишь, –
не станешь! – не простишь...
ОЖИДАНИЕ ПЕРВОГО СНЕГА
Но – мне! – не нравится
так поступать с тобой:
о, как ужасна жизнь мужского пола –
ты все еще, – а я уже живой,
ты все как девочка, – а я уже тяжелый
(неповторимый, ласковый, тупой,
бессмысленный, ореховый, сосновый),
самоуверенный, как завуч средней школы, –
нет, выпускник – лесной воскресной – школы,
ее закончивший – с медалью золотой.
Любая женщина – как свежая могила:
из снов, из родственников,
сладкого, детей...
Прости ее. Она тебя любила.
А ты кормил – здоровых лебедей.
Но детским призракам (я это точно знаю) —
не достучаться им —
до умного – меня...
А ты – их слышишь – теплая, тупая,
непоправимая – как клумба, полынья.
Стихотворение – простое, как объятье —
гогочет, но не может говорить.
Но у мужчин – зато —
есть вечное занятье:
жен, как детей, – из мрака – выводить.
И каждый год – крикливым, птичьим торгом
я занимаюсь в их – живой – груди:
ту женщину,
наевшуюся тортом,
от мук, пожалуйста, – избавь и огради!
Все стихтворения —
как руки, как объятья.
(...от пуха, перьев их – прикрой меня – двумя!)
Да, у мужчин – другие есть занятья,
но нет других – стихотворений – у меня.
...Ты мне протягиваешь – руку наудачу,
а я тебе – дырявых лебедей.
Прости меня.
Я не пишу, я плачу —
над бедной-бедной – девочкой – моей...
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ
...а теперь – все, что хочешь,
но только не эти «Итоги»,
и не этот политик – с растрепанными глазами,
и уж точно не эти солдаты,
солдаты – в кровавой пыли, –
но их,
кто простит – их –
за их некрасивые ноги
(и что я все время суюсь – со своими ногами?),
за их – некрасивые ноги,
за красивые их – сапоги.
Ты – тот, который ходит враскоряк,
потом потеет – в нас,
потом – лежит, как студень.
Я понял, что ты хочешь – только так.
Но так – не будет.
Нас не для этого – просили не орать,
кормили сахаром, а накормили – солью:
ни унижать людей,
ни бить, ни убивать —
я не позволю.
О, этот алый, грубый, свежий сок, —
он так летит, как яблоня в апреле!
(...а нам покажется: еще один хлопок...)
– Что, на подошвах, дядя?
– Грязь, с-сынок. —
Да неужели...
Ну, – встаньте же, –
Архаров, Барсуков,
Воденников, Ершова,
Садретдинов,
Хохлова, Холомейцер, Хохляков,
Хмелева, Яцуки... – НЕВЫНОСИМО!
Ты – вот где – мне,
а я – в твоих руках,
ты – как желе (сидеть!..),
а я – как батарея,
ты – в замечательных – сегодня сапогах
(все – в замечательных сегодня сапогах!) —
а я без них,
и я – тебя – сильнее.
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Он делал все – с таким видом,
будто хотел сказать:
«...вот как щас подойду,
и как дам по башке этим микрофоном, –
будет тебе и ка€тарсис и ката€рсис
и все, что захочешь...»
Однако на самом деле – хотел он сказать совсем про другое.
«Место поэта, – хотел он сказать, – в рабочем строю,