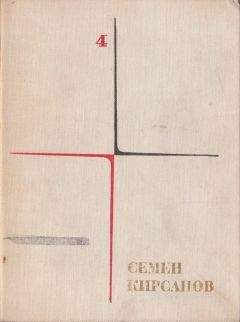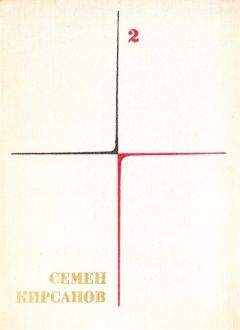Семен Кирсанов - Гражданская лирика и поэмы

Обзор книги Семен Кирсанов - Гражданская лирика и поэмы
Семен Кирсанов. ТОМ ТРЕТИЙ
Гражданская лирика и поэмы
Гражданская лирика и поэмы (1923–1970)
ЧАСЫ
Я думал, что часы — одни.
А оказалось, что они
и капельки, и океаны,
и карлики, и великаны.
И есть ничтожные века,
ничтожней малого мирка,
тысячелетья-лилипуты…
Но есть великие минуты,
и только ими ценен век,
и ими вечен человек,
и возмещают в полной мере
все дни пустые, все потери.
Я знал такие. Я любил.
И ни секунды не забыл!
Секунды — в мир величиною,
за жизнь изведанные мною.
И разве кончилось Вчера,
когда Ильич сказал: «Пора!»
Нет!
Время Ленина все шире
жизнь озаряет в этом мире.
И так повсюду.
Знает мир
часы карманов и квартир
и те — без никаких кронштейнов —
часы Шекспиров,
часы Эйнштейнов!
ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА (1923–1970)
ПЕСНЯ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКЕ
Расцветала снежная,
белая акация.
Утренняя спешная
шла эвакуация.
Разгоняли приставы
беспортошных с пристани.
В припортовой церкви
молились офицерики.
Умолили боженьку
службою и верою
железнодорожника
удавить на дереве.
«Вешал прокламацию?
Будешь проклинать ее.
За таку оказию
украшай акацию.
Красному воробушку
надевай веревочку
на царя и родину,
наше сковородие!»
И суда военные
зашумели пеною,
задымили хрупкими
трубами и трубками.
Днем и ночью целою
ждали власти граждане.
В городе — ни белые,
в городе — ни красные.
Но до утра серого
у сырого дерева,
темного, сторукого,
плакала старуха:
«Вырос ты удаленек,
стал теперь удавленник.
Ноги обняла бы я,
не достану — слабая…
Обняла бы ноги я,
да они высокие.
Ох, я, одинокая,
старая да ссохлая!..»
А в ворота города
залетали красные,
раскрывали вороты,
от походов грязные…
И от ветров дальних
тронулся удавленник,
будто думал тронуться
навстречу к буденновцам.
ОТХОДНАЯ
Птица Сирин
(Гамаюн,
Гюлистан)
пролетает
по яблонным листам.
Пролетай,
Иван-царевич,
веселись,
добрым глазом
нынче смотрит василиск,
а под сенью
василисковых крыл
император всероссийский
Кирилл!
Верещит по-человечьи
Гамаюн:
— Полечу я поглазеть
на мою,
полечу,
долечу,
заберусь
на мою
императорскую Русь.
Как ни щурят
старушечье бельмо
Мережковский,
Гиппиус,
Бальмо́нт, —
старой шпорой
забряцати слабо́
у советских деревень
и слобод.
У советских деревень
и слобод
веют ветры
Октябрьских свобод,
да с былой
с православной
с кабалой
облетает
позолота с куполов!
Не закрутит вновь
фельдфебельский ус
православно-заграничная
Русь.
УЛИЦЫ
Худые улицы
замоскворечные,
скворцы — лоточники,
дома — скворечни,
где мостовые к
опытом пытаны,
где камни
возятся под копытами.
О, как задумались
и нависли вы,
как замечталися
вы завистливо
о свежих вывесок
позументе,
торцах, булыжниках
и цементе.
Сквозь прорву мусора
и трубы гарные
глядите в звонкое
кольцо бульварное, —
туда, где улицы
легли торцовые,
где скачут лошади,
пригарцовывая,
где, свистом
площади обволакивая,
несутся мягкие
«паккарды» лаковые,
где каждый дом
галунами вышит,
где этажи —
колоколен выше.
От вала Крымского
до Земляного —
туман от варева
от смоляного.
Вот черный ворох
лопатой подняли…
Скажи — тут город ли,
преисподня ли?
Тут кроют город,
тут варят кровь его —
от вала Крымского
до Коровьего.
Худые улицы
замоскворечные,
скворцы — лоточники,
дома — скворечни,
сияя поглядами
квартирными,
вы асфальтированы
и цементированы.
Торцы копытами
разгрызаючи,
несется конь
на закат рябиновый,
автомобили
стремглят по-заячьи,
аэропланы —
по-воробьиному.
Спешат
по улице омоложенной
направо — девица,
налево — молодец,
и всех милее,
всего дороже нам
московских улиц
вторая молодость!
РАЗГОВОР С ДМИТРИЕМ ФУРМАНОВЫМ
За разговорами
гуманными
с литературными
гурманами
я встретил
Дмитрия Фурманова,
ладонь его пожал.
И вот
спросил Фурманов
деликатно:
— Вы из Одессы
делегатом? —
И я ответил
элегантно:
— Я одессит
и патриот!
Одесса,
город мам и пап,
лежит,
в волне замлев, —
туда вступить
не смеет ВАПП,
там правит
Юголеф!
— Кирсанов,
хвастать перестаньте,
вы одессит,
и это кстати!
Сюда вот,
в уголочек,
станьте,
где лозунг
«На посту!»
висит.
Не будем даром
зу́брить сабель,
не важно,
в Лефе ли вы,
в ВАППе ль,
меня интересует
Бабель,
ваш знаменитый
одессит!
Он долго ль фабулу
вынашивал,
писал ли он
сначала начерно
и уж потом
переиначивал,
слова расцвечивая
в лоск?
А может, просто
шпарил набело,
когда ему
являлась фабула?
В чем,
черт возьми,
загадка Бабеля?..
Орешек
крепонек зело!
— Сказать по правде,
Бабель
мне
почти что
незнаком.
Я восхищался
в тишине
цветистым
языком.
Но я читал
и ваш «Мятеж»,
читал
и ликовал!..
Но — посмотрите:
темы те ж,
а пропасть
какова!
У вас
простейшие слова,
а за се́рдце
берет!
Глядишь —
метафора слаба,
неважный
оборот…
А он
то тушью проведет
по глянцу
полосу,
то легкой кистью
наведет
берлинскую
лазурь.
Вы защищали
жизнь мою,
он —
издали следил,
и рану
павшего в бою
строкою
золотил,
и лошади
усталый пар,
и пот
из грязных пор —
он облекал
под гром фанфар
то в пурпур,
то в фарфор.
Вы шли
в шинели
и звезде
чапаевским
ловцом,
а он
у армии
в хвосте
припаивал
словцо,
патронов
не было стрелку,
нехватка
фуража…
А он
отделывал строку,
чтоб вышла
хороша!
Под марш
военных похорон,
треск
разрывных цикад
он красил
щеки трупа
в крон
и в киноварь —
закат.
Теперь
спокойны небеса,
громов особых
нет,
с него
Воронский написал
критический
портрет.
А вам тогда
не до кистей,
не до гусиных
крыл, —
и ввинчен
орден
до костей
и сердце
просверлил!
…А что касается
меня —
то в дни
боев и бед
я на лазурь
не променял бы
ваш
защитный цвет!
Тень маяка,
отливом смытая,
отходит
выправка Димитрия;
воспоминаний этих
вытравить
нельзя из памяти
навек!
Когда был поднят гроб
наверх —
увитый в траур
гроб Димитрия, —
горячий орден
рвался в грудь,
чтоб вместо сердца
заструиться,
чтоб дописать,
перевернуть
хотя б
еще одну страницу…
РАЗГОВОРЪ СЪ ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ