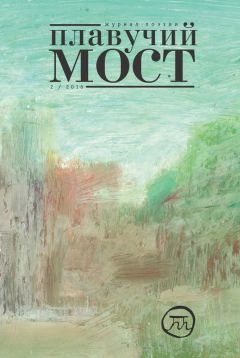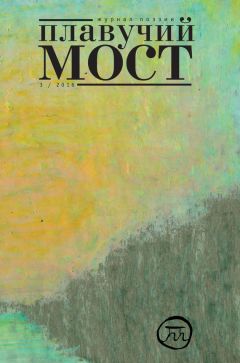Коллектив авторов - Плавучий мост. Журнал поэзии. №1/2016
Время – потомственный плотник, мастер лодочных дел. Рубит, снимает лишку… «Не плотников ли Он сын?» Тешет из сердцевины, из самого сердца людей. Шьёт осторожные лодки, суда нездешней красы.
Люди кричат и стонут, лодками быть не хотят. Люди не понимают, о чём говорят топоры. Им не к лицу деревянный и просмолённый наряд, Но под килем снуют уже спины блестящих рыб.
Люди голову прячут – Господи, не меня! «Больно!» кричат и плачут, но не уходят ко дну. Время ведёт обтёску от вершины к корням – Рыбьими тушками лодок легче в вечность нырнуть.
Лодочки – загляденье! Их принимает река.
Новых брёвен и досок времени хватит сполна.
…А мужская рука его, словно воздух, легка,
Если ему подвластны жаворонок и весна.
«Кто услышал его? Христа ради, на!..»
Кто услышал его? Христа ради, на!
С неба видит – идёт человек…
Старый нищий нашёл виноградину
У скамеечки, на траве.
Он поднял с земли пыльную ягоду
И поднёс поскорее к губам.
Эх, для счастья так мало и надо бы.
Только волю, да воля слаба.
Он траву всю обшарил ладонями,
Щурил, щурил глаза. Ничего.
Бросьте с неба награду бездомному,
Пожалейте немного его…
Отлучение
Отлучаемый костенеет, кожа жёстче коры,
Он руками хватается за ускользающий свет.
Толи голову в небо задрать, то ли яму рыть,
То ли просто смотреть – ничего не видеть – вослед.
Не утешится плачущий, ибо он не блажен.
Отлучение – боль или даже боли больней.
Потерять упругость и сонную силу корней,
Обрести пустое, не дышащее взамен.
Люди не сомневаются, вправе ли отлучать,
И не дарят розу или глоток молока.
Отлучаемый будет признан святым в веках,
А пока бредёт по самой кромке луча.
«Мы живём в одно время в одном городе…»
Мы живём в одно время в одном городе.
Но эскизы моих строений
для тебя невидимы,
а мои улицы слишком гулки,
чтобы ты, окружённый музыкой как воздухом,
ступил на их тротуары.
Любитель тишины и парадоксов,
ты допускаешь в свой город
только музыку,
властительнее которой я ничего и никого не знаю.
И прячешься от меня
за чертежами быта,
а я вижу падающие тени на листах твоих черновиков –
стоят дома и костёлы,
шумят деревья,
снуют крохотные люди…
Я с удивлением узнаю среди них себя –
женщина бежит без оглядки,
растрепав волосы, теряя одежду,
пересекает границы бумажного пространства
и исчезает.
Ты задумчиво продолжаешь писать, не замечая потери.
Музыка, неуверенно сопровождавшая это бегство,
превращается в тишину.
Я в городском парке.
Тебя нет, и мне уже не страшно.
Моя архитектура утратила звучание.
Но разве твоя музыка её не слышит?
Я доказываю себе, что я дома,
но окрестности мне кажутся незнакомыми.
Знакомы лишь твои губы и руки.
Значит, я в твоём городе.
Накинь на меня одежду.
Или я стала музыкой?
«Мужчина, увязший в своей пустоте…»
Мужчина, увязший в своей пустоте,
делит зачем-то с тобою постель,
но прерывает волшебный акт;
ты к нему эдак, ты к нему так,
он же, просто надев штаны
(руки, крики твои не нужны),
хочет из жизни твоей уйти,
ты как кочка на ровном пути.
Завтра тебе, еле-еле живой,
ехать по долгой такой кольцевой,
и возрождаться, отращивать «я»,
колышек вбить, где граница твоя.
Знаешь, а всем на тебя наплевать.
Не кантовать тебя, не ницшевать.
В этом особая, чёрт, благодать.
Германия
Меня пересекает стена.
Она проходит
по центру
вдоль тела,
делая петлю в области сердца,
прорезая его по Солнечной аллее.
Левое ухо
не слышит то,
что узнало правое.
Правая ноздря
не чует аромата,
которым
наслаждается
левая.
Мой язык
разрезан,
как змеиное жало.
Только левое и правое
полушария мозга
передают друг другу сигналы.
Почему я всё ещё не привыкла к боли?
Почему мне снится, что, пытаясь встать,
я срастаюсь и на мне нет шрамов?
«Кем осталась я после нежной дружбы с тобой?..»
Кем осталась я после нежной дружбы с тобой?
Деревом или косточками в его плодах?
Я уже никогда не узнаю, что значит боль,
Даже если как ценность её никому не отдам.
Может (скажешь), я стала ещё живей,
Тронешь пальцем меня, и рана кровоточит?
Из таких деревьев, как я, не строят церквей,
Потому что Слово в храмах таких горчит.
Посмотри, как прекрасна падалица моя!
Ей не нужно стремиться к небу – страх высоты.
И без спила понятно: я старше, поблекла явь
И корней не пускают ни храмы мои, ни кресты.
Я отныне статична, мне некуда больше бежать,
Но я в силах носить в себе дупла и гнёзда других,
Подставлять своё жёсткое тело, снимать беспокойный жар
И тихонечко петь сочинённый с тобою гимн…
«Ты касался лица моего, а во мне пели колокола…»
Ты касался лица моего, а во мне пели колокола
(этот медный язык тихой церкви в моём городке),
и, задрав подбородок, под звонницей девочка шла,
пятилетняя девочка (я?) налегке, налегке…
Ты меня обнимал, а внутри меня плыли суда,
и гружёные баржи, и льдины, и сонмища рыб,
я впустила в себя эти реки, не помню когда,
не с рожденья – тогда во мне жили другие дары…
Ты входил в моё лоно. И лиственнице – небес
головою касаться, вспархивать – голубям,
танцевать – сполохам!.. А мне, повинуясь судьбе,
быть церквушкой, рекою, деревом, но без тебя.
«На дне моря – барханы…»
На дне моря – барханы.
Песчаные волны текут медленно.
Они не подчиняются небу морских.
Ступаешь в воду, и между песком и подошвой
рождается пространство,
где мой загорелый ребёнок
чертит на прибрежном песке своё имя,
а вынесенная на берег морская капуста,
как магнитофонная плёнка,
записывает молчание ветра в его волосах.
Иван Шепета
Стихотворения
Род. в 1956 г. в ныне не существующем посёлке горняков. Автор б-ти поэтических книг и многочисленных публикаций в толстых и тонких журналах, альманахах и литературных еженедельниках. Стихи переводились на иностранные языки, о них писала современная критика. В настоящее время живёт во Владивостоке. Предприниматель. Издатель.
Жуть соловьинная
Вкралось серое на синее:
ветки – чёрные,
кусты –
посеребренные, в инее,
будто мёртвые,
пусты.
Только
железнодорожная
ветка
рядышком поёт,
только ворон завороженно
голос небу подаёт.
То картавит, то грассирует –
Соловей!
Разбойник, вор…
Окрылённый, звук форсирует
Дарданеллы и Босфор.
Соловьиных свистов Родина,
тьма ничейная земли,
где на Киев заколодило
путь
без Муромца Ильи.
Братство с равенством отгрезились.
В святцах – рыла упырей.
Допились. Домаршальезились.
Жуть. И нет богатырей!
Только с проводом оборванным
столб
на сторону косит,
только сказанное вороном
долго в воздухе висит.
Осень в покровском парке
Разгулялась над окрестностью погодка…
Я гляжу, как в синем небе птица реет,
как у старого товарища походка
изменилась, оттого что он стареет.
Грустно мне на этом свете оголтелом,
не осталось для меня в нём белых пятен.
Был когда-то я хорош и крепок телом,
а теперь я только словом и приятен.
Не доволен я собой, от жизни тошно,
не влечёт она к себе забытой тайной,
не гуляется мне в парке, оттого что
был когда-то он кладбищенской окраиной.
Здесь, студенту, мне на ум не шла наука.
Дрался в парке. Танцевал. Глушил портвейн…
На немых могилах
пушкинского внука[3]
и расстрелянной Людмилы Волкенштейн[4].
«У моря я лечь хочу камнем…»
У моря я лечь хочу камнем,
большим, и бунтующим волнам
в беспамятстве ясном, веками
внимать, оставаясь безмолвным.
Хочу, чтоб средь общего ритма
слияний и разъединений
души моей грубой молитва,
звучала, не зная сомнений.
И где-то гудок теплохода,
далёкий и слышимый еле,
звучал над пространством как ода
про жизнь в человеческом теле.
Вслушиваясь
Из души выщипывает струнки
чёрный лес, застывший нагишом,
будто в ученическом рисунке,
чёрканный простым карандашом.
Жизни грешной не певец я – пленник.
Сердце безголосое болит.
До минор… три ёлочки – не ельник,
оживляют музыкою вид.
От порога в лес уводят ноги,
каждый кустик и колюч, и наг.
Осень… время подводить итоги,
обходя исхоженный овраг,
говорить «прощайте!» и – «спасибо!»,
поворот почувствовав в игре,
вслушиваясь
в долгий стук с Транссиба,
в длинный текст из точек и тире.
«Быть с нею…»