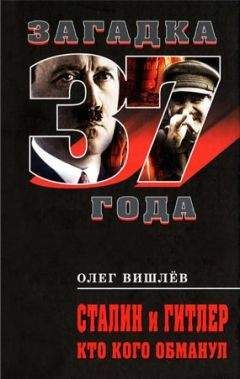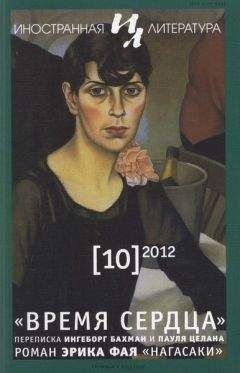Ингеборг Фляйшхауэр - Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939
Пропагандистская шумиха относительно вооруженной до зубов Чехословакии, игравшей роль советского «авианосца» в Центральной Европе, показала внимательным наблюдателям, что мнимая угроза проживающему в Судетах немецкому меньшинству и выдвигаемое требование права на самоопределение представляют собой лишь предлог для военно-политической экспансии и что целью активного раздувания кризиса является овладение всей Чехословакией. Тайный приказ к уничтожению Чехословакии, изданный Гитлером 30 мая 1938 г., со всей наглядностью продемонстрировал это военным и другим осведомленным лицам. Но воинственные намерения в отношении Чехословакии были сопряжены с опасностью нарушения сложившегося в Центральной Европе равновесия и могли вызвать автоматическое срабатывание механизма союзнических обязательств. Любое нападение на Чехословацкую Республику, как бы оно ни маскировалось в пропагандистском и военном плане, по всей вероятности, привело бы в действие существовавшее соглашение о взаимной помощи. Франция оказала бы помощь Чехословакии, Англия последовала бы за Францией и вступила бы в войну с Германией, а после выступления Франции помочь восточноевропейскому славянскому государству был обязан Советский Союз. Вырисовывалась чрезвычайно опасная ситуация войны на два фронта.
В то время как в свете знаний военных реальностей было весьма неопределенно, смогут ли вообще германские войска, а если смогут, то когда и какой ценой, овладеть Чехословакией, располагавшей мощными пограничными укреплениями[115], не вызывало сомнений, что в войне на два или более фронтов вооруженные силы Германии рано или поздно будут разбиты, причем даже и в том случае, если СССР вступится за маленький братский славянский народ не более чем символическими силами.
Начальник генерального штаба германских сухопутных войск Людвиг Бек, сознавая подобные перспективы и соблюдая моральный и военный кодекс прусской традиции, 18 августа 1938 г. подал в отставку в знак протеста против запланированной захватнической войны с ее неизбежными последствиями[116]. Ни один немецкий генерал не последовал его примеру. Но пожалуй, впервые после стабилизации гитлеровского режима заинтересованность в собственной защите, вызванная непосредственной угрозой, нависшей над Германией из-за безответственной игры ва-банк, свела вместе горстку людей, занимавших военные и гражданские ключевые посты и убежденных в том, что только заговор может спасти страну[117]. Их планы остались теорией. «Если бы нас 28-го действительно ввергли в войну, — сообщал генерал фон Клейст бывшему послу Ульриху фон Хасселю через несколько дней после неожиданного мирного окончания кризиса, — то для спасения Германии от катастрофы у военных, по сути, оставалось лишь одно средство: арестовать главных политиков»[118].
Между тем до «сентябрьского заговора»[119] дело не дошло. Помимо того что внешнеполитическое развитие ограничило способность к единодушному действию, решающее значение имели колебания военных по коренным вопросам. Поэтому единственная серьезная попытка не допустить втягивания Германии в новую войну с непредсказуемыми последствиями для всего мира, по признанию оппозиционных сил в министерстве иностранных дел, «к несчастью для Германии и всего мира»[120], не реализовалась.
Вместо этого с подписанием 1 октября 1938 г. Мюнхенского соглашения, по наблюдениям Ульриха фон Хасселя, «чувство огромного облегчения... в связи с предотвращенной войной охватило весь народ», в том числе и значительную часть (в глубине души) оппозиционной элиты. Благоприятный для выступления момент остался неиспользованным, и ему никогда не будет суждено повториться.
Это граничившее с эйфорией чувство облегчения, вызванное позицией великих держав, их уступчивостью, сопровождаемой серьезными предупреждениями Советского правительства, сохранялось недолго. Уже через несколько дней «события 27 и 28 сентября... стали все яснее вырисовываться как момент величайшей опасности. Нами (то есть правительством Гитлера и Риббентропа. — И.Ф.) была затеяна прямо-таки преступная по своему легкомыслию игра». На смену эйфории скоро пришли отрезвление и новые, более глубокие опасения, «что Г(итлер)... скоро опять проявит агрессивность» на международной арене. Как известно, Гитлер не скрывал, «что он не примирился с вмешательством государств и что было бы лучше, если бы он начал войну». Канцлер неоднократно высказывал свое неудовольствие исходом кризиса и выражал «неизменную убежденность в том, что Англия и Франция, сознавая собственную слабость, никогда бы не выступили. Но если бы они это сделали, то все равно победа была бы за нами, главным образом потому, что наша воздушная мощь в два раза превосходит объединенную франко-английскую и даже русскую!». Его министр иностранных дел предстал перед подчиненными весьма «раздосадованным... поскольку дело не дошло до применения силы». Эти и другие наблюдения неизбежно вызывали в информированных кругах Берлина, озабоченных будущим развитием, «ощущение, что Гитлер даст лишь короткую передышку. Он не мог иначе, как подготовить новый удар»[121].
В действительности и через десять месяцев Гитлер все еще испытывал негодование по поводу того, что политика умиротворения западных держав и особенно уступчивость Чемберлена в Мюнхене разрушили все его наступательные планы. В августе 1939 г. он спровоцировал еще один опасный международный кризис вокруг Польши, окончательно нацеленный на войну. Правда, его противники поменялись ролями: теперь «миротворцем» выступало Советское правительство, а угроза исходила от западных государств. В речи перед германским главным командованием, произнесенной утром 22 августа 1939 г. после, по его словам, установления «личного контакта со Сталиным»[122], Гитлер в Оберзальцберге[123] заявил, что боится только одного: что «в последний момент какая-нибудь сволочь (реверанс в сторону Невилла Чемберлена. — И.Ф.) предложит план посредничества».
В связи со столь поразительным развитием, когда Германия за десять месяцев прошла путь от неудавшейся попытки начать войну до фактического развязывания мировой войны, возникают важные вопросы относительно деятельности ответственных за внешнюю политику сил и инстанций. Как германская дипломатия могла мириться с вторжением в ее сокровеннейшую сферу какого-то канцлера, который зарекомендовал себя азартным игроком в глазах не только начальников генеральных штабов, но и широких кругов международной общественности, что нашло отражение в сообщениях германских представителей за рубежом? Как могла внешнеполитическая служба последовать за министром иностранных дел, который в разгар кризиса оставил дипломатические средства, чтобы бить в барабан войны? Чем занимались десять месяцев, когда Германия двигалась по пути к войне, те силы в министерстве иностранных дел, которые в непосредственной близости со своих постов наблюдали за так называемым судетским кризисом, понимали собственную ответственность и осознавали возможные катастрофические последствия конфликта?
Исторические исследования в прошлом и настоящем не дали на эти трудные вопросы обстоятельного, исчерпывающего ответа[124]. Дело осложняется тем, что существующая литература касается упомянутых вопросов на трех различных уровнях, которые из-за отсутствия связующего исследования с трудом объединяются в целостную картину. Речь идет о нередко резко контрастирующих друге другом свидетельствах самих участников, рассказах посторонних лиц, а также о документах того периода. Поиск ответа затрудняется еще и тем, что служащие министерства иностранных дел к тому времени уже не представляли собой однородную чиновничью массу, сложившуюся в результате отбора, системы образования и служебной карьеры. Старослужащими профессиональным дипломатам, так называемому «старому» министерству иностранных дел, дерзко и грубо поперек дороги встали вторгшиеся в эту твердыню национальной консервативной мысли высокомерные выходцы из рядов партии, CA и СС. Это произошло прежде всего во время крупной, но в подробностях малоизученной перестановки кадров в феврале 1938 г., которая, собственно, и предопределила приобщение министерства иностранных дел и его служб к существовавшей тогда в Германии фашистской идеологии.
Настроение в министерстве иностранных дел
Среди руководства «старого» министерства иностранных дел, которое американский военный следователь Де Витт Пул в 1946 г. после продолжительных опросов назвал «рациональной элитой»[125], уже ко времени так называемого судетского кризиса царило подавленное настроение, вызванное главным образом тревогой за дальнейшее развитие. Отношение этих кругов к предшествовавшим внешнеполитическим акциям Гитлера, возвестившим о его разрыве с европейским мирным устройством, еще подробно не освещалось. Здесь имеются в виду: выход Германии из Лиги Наций и отказ от участия в работе Конференции по сокращению и ограничению вооружений (14.10.1933); нарушение Версальского мирного договора с опубликованием декрета о всеобщей воинской повинности (16.3.1935); аннулирование Локарнского соглашения и оккупация демилитаризованной Рейнской зоны (7.3.1936); подписание секретного германо-итальянского протокола (25.10.1936); заключение антикоминтерновского пакта с Японией (25.11.1936) и, наконец, аншлюс Австрии (13.3.1938). Существует предположение, что настроение в министерстве иностранных дел и его представительствах за рубежом наряду с соответствующими социальными и интеллектуальными предпосылками носило также отпечаток специфических переживаний отдельных поколений. Так, более старшие из представителей этих кругов явно или скрытно проводили или одобряли «политику мирной ревизии»[126] «версальского диктата» и поэтому до известной степени закрывали глаза на вызывающие тревогу перемены. В то же время более молодые силы, получившие профессиональную подготовку и влившиеся в министерство иностранных дел в период Веймарской республики, уже при первых признаках отхода Гитлера от установившегося в Европе мирного устройства стали выражать свое недовольство. Должно быть, в эти годы в обеих группировках, хотя и с различной мерой интенсивности, усилились сомнения относительно допустимости политики Гитлера. Трудно сказать, обнаружится ли в результате тщательного изучения, что политическая позиция во многом неоднородного высшего служебного персонала МИДа была все же более единодушной. Есть некоторые основания полагать, что, исходя из политических взглядов и симпатий ведущих профессиональных дипломатов министерства иностранных дел, их весьма условно можно отнести к «национал-консервативной элите»[127] (пребывающей в общем потоке германской оппозиции по отношению к Гитлеру) и к «знати»[128] (относящейся к кругам активного сопротивления национал-социализму). Помимо возросшего после реформы Шюлера различия в социальном происхождении и социальной ориентации, определявшими их позиции в отношении внутригерманского развития, на их внешнеполитические взгляды не в последнюю очередь влияла работа за границей. Именно здесь в зависимости от условий и духовного уровня конкретного лица происходила более или менее устойчивая национальная и культурная ассимиляция с образом мышления в других странах, возникали личные привязанности, сохранявшиеся до известной степени и после перехода на работу в министерство. В целом можно с полным основанием предположить, что данный контингент, как правило, благодаря длительному пребыванию за границей, знакомству с культурой этих стран и знанию иностранных языков обладал более широким политическим кругозором и был менее восприимчив к выросшей из специфических национальных тревог гомогенизации массового сознания, подчиненного направляющей воле одного человека.